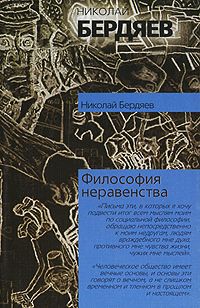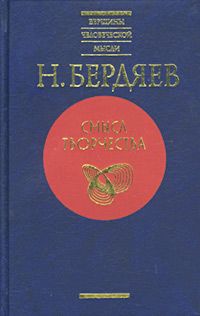Николай Бердяев - Я и мир объектов
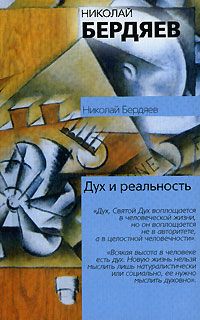
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Я и мир объектов"
Описание и краткое содержание "Я и мир объектов" читать бесплатно онлайн.
Николай Бердяев – один из виднейших представителей русской религиозной философии XX столетия, но прежде всего – первый в нашей стране представитель школы религиозного экзистенциализма, неизменно противопоставляющий свободу духа прокрустову ложу объективной необходимости...
4. Ступени общности в познании. Угасание вещного, объектного мира и раскрытие тайны существования
Познание бесспорно имеет социальный характер, и этот социальный характер недостаточно еще выявлен теорией познания. Познание есть сообщение между людьми, установление связи и взаимного понимания. Познание есть выход из состояния замкнутости, из погруженности в себя. Через познание преодолевается разрыв мира, связанный с пространством и временем. В условиях нашего мира именно в познании я переношусь в далекое прошлое и на противоположный конец мира. Познание устанавливает связи между тем, что разорвано и отчуждено. И есть разные ступени этой связи и этой преодоленности разрыва, устанавливаемых познанием. То, что называют общеобязательностью (Allgemeingultigkeit) познания, имеет социальную природу. И самая логика, через которую устанавливается сообщение в мышлении и познании, носит социальный характер. Логизация мышления, подчинение его логическим законам, есть вместе с тем и социализация его. Первоначальная познавательная интуиция глубоко лична, в ней человек стоит перед тайной бытия. Но результаты познания социальны, они для общества и для сообщения между людьми. Уже опубликование научного открытия, написание книги имеет социальную природу сообщения между людьми. И ступени сообщения, достигаемого познанием, зависят от ступеней общности между людьми. Мы уже говорили, что объективация в познании есть вместе с тем социализация. Эта объективация познания носит разный характер в разных социальных группировках. Разные социальные группировки, в зависимости от различия своей социальной структуры, по-разному выражают объективность и общеобязательность результатов познания. Научное познание было до сих пор по преимуществу сознанием группы ученых, академиков. Но результаты научного познания, особенно в так называемых точных, физико-математических, науках, приобрели характер универсальной обязательности, они служат для сообщения между всеми людьми, людьми даже совершенно разобщенными между собою. Через научное познание, например, познание математическое и естественнонаучное, происходит универсальное сообщение между людьми, но не происходит общения. Это познание предполагает лишь низшую ступень общности между людьми. Люди совершенно разной духовности, разных религиозных верований, разных социальных классов, разных национальностей и культур могут сообщаться между собой на почве истин математики и физики. Наука со своей общеобязательностью есть познание объективированного и социализированного мира, в котором сообщение достигается при разобщенности людей, она предполагает минимальную общность людей. Результаты познания, способные быть сообщенными, всегда означают достижение какой-то общности между людьми, прежде всего общности в символике языка.[68] Но эта ступень общности может быть при разобщенности. Особенная проблема социологии познания есть проблема рассмотрения познания в двух перспективах – в перспективе общества и в перспективе персонального общения. Познание в перспективе общества знает наиболее универсальную общеобязательность, наиболее широкий круг сообщения, но не знает внутреннего существования и общения. Познание в перспективе общения знает приобщенность к тайне существования, к духу, как ее вершине, но оно не обладает универсальной общеобязательностью, не служит таким средством сообщения. Уже истина философского познания предполагает гораздо большую ступень духовной общности, чем истины физико-математические. Истины же религиозные предполагают максимальную степень духовной общности. Со стороны эти истины представляются совсем «субъективными», не доказуемыми, не убедительными, не помогающими универсальной сообщаемости людей. Между тем как внутри духовной общности, внутри того, что называют «церковью», религиозные истины наиболее универсальны, более универсальны, чем истины математические. Но они предполагают веру и единство верующих. В эпоху максимальной социальной объективации христианства, например в средние века, образовалась общность христианского человечества, для которого истины христианства были совершенно универсальными. Тогда, наоборот, истины научные не были еще социализированы и представлялись совершенно неубедительными и даже возмущающими. В разные эпохи это бывает по-разному. В нашу эпоху оказываются максимально объективированными и социализированными результаты научного познания и связанная с ними сообщаемость людей носит универсальный характер. Истины же религиозного порядка представляются «субъективными», хотя нужно помнить всю условность этой терминологии. В сообщаемости сознаний существуют разные ступени общности. И достижение универсальной общности в условиях нашего мира связано с максимальной объективацией и социализацией. Но это и есть универсальная общность для мира падшего, находящегося в состоянии греховной разобщенности. Падшесть и греховная разобщенность тут лежат не в объективации научного познания, а в самом состоянии бытия. Научное же познание со своей объективацией есть положительная ценность. Она аналогична достижению юридической обязательности для мира разобщенного. То, что мы называем философией существования, которая раскрывает мир необъективированный, не достигает в познании универсальной общеобязательности. То, что не связано с объективацией, не может представляться «объективным», оно представляется «субъективным». «Субъективное» же не есть неистинное или ложное, – наоборот, оно может быть максимально истинным, но оно не представляется универсально общеобязательным для сообщения между людьми. То, что предполагает духовную общность, общение, может быть плохим путем сообщения между людьми. Это есть один из основных парадоксов познания в мире падшем. Насильственные сообщения между людьми, преодолевающие пространство и время, построены при помощи познания объективированного, не предполагающего общности, при помощи математики, а не познания духа и самого человеческого существования. Правда, то, что называют религией, и означает связь, служило и сообщению, а не только общению между людьми, организовывало жизнь общества. Но так было потому, что истины откровения были объективированы и социализированы и поставлены под знаком общества. Религиозные сообщения устанавливались без настоящей общности.[69] Только в жизни духа исчезает объективация. И истины, в ней раскрывающиеся, совсем не представляются общеобязательными. Существуют разные ступени объективации – в мире неорганическом, в мире органическом, в мире социальном.[70] Интересно отметить, что, хотя объективация, по существу, есть социализация, но в познании социальном достигается меньшая общеобязательность, чем в познании естественнонаучном. И это определяется тем, что социальное познание было связано с социальным положением людей, с их принадлежностью к той или иной социальной группе, с ее психологической ограниченностью. Характер социального познания очень зависит от социальных группировок. И потому познание физико-математическое в гораздо большей степени достигает общеобязательности и социализированности, чем познание социальное. Даже классовая теория марксизма с большим трудом раскрывает классовый характер физико-математического познания и с большой легкостью раскрывает его в познании социальном. Нужно признать, что для конкретной теории познания познание связано с социальными отношениями людей, она неизбежно есть и социология познания. Социология познания проливает свет даже на религиозное познание. Церковь есть также социологическая категория, и возможна церковная гносеология, как форма социологии познания. Но вся теория объективированного и социализированного познания, социализированного в разных ступенях общности, от общности узких социальных группировок до общности универсальной, настоящее освещение получает лишь в перспективе философии существования, в перспективе экзистенциального субъекта, а не в перспективе предметного, вещного объекта. Раскрытие тайны существования, как тайны активного духа в глубине и на вершинах, отличного от всякой объективированной природы, есть угасание объективированного, вещного, уплотненного и отяжелевшего, лишь социально общеобязательного мира. Ту же проблему нужно рассматривать в перспективах соотношений между одиночеством «я» и обществом.
Размышление III. Я, одиночество и общество
1. Я и одиночество. Одиночество и социальность
«Я» – изначально, ни из чего не выводимо и ни к чему не сводимо. Когда я говорю «я», я не высказываю и не предполагаю никакого философского учения. «Я» не есть субстанция метафизики и религии. Ошибочность cogito ergo sum в том, что Декарт хотел из чего-то вывести существование «я», вывести из мышления. В действительности не я существую потому, что мыслю, а я мыслю потому, что существую. Не «я» мыслю, следовательно, существую, а «я» существую, окруженный темной бесконечностью, и, следовательно, мыслю. «Я» прежде всего существующий. «Я» принадлежу к порядку существования. Необъективированное «я» экзистенциально есть свобода. Амиель верно говорит, что глубина «я» не может объективироваться.[71] «Я» не принадлежу, именно «я» не принадлежу к миру объективированному. Объективированное «я» уже не «я». «Я» принадлежит не к природе, а к существованию. «Я» изначально и первично.[72] Сознание ему лишь присуще, как и бессознательное. Первично «я», погруженное в существование, а совсем не сознание, как думают многие философы. Начинать с сознания, значит уже начинать с какой-то ступени объективации. Когда Мен де Биран говорит, что сознание усилия есть начало «я», личности, он говорит о чем-то очень важном, но не самом первичном.[73] Сознание себя есть творчество себя.[74] Это верно. Но это предполагает, что есть что-то более первичное, чем сознание. Возникновение сознания есть очень важное событие в судьбе «я». Сознание разделяет и делает одиноким и оно же делает усилие соединить и преодолеть одиночество. «Я» есть свобода, примордиальная свобода, и вместе с тем острое ощущение «я» сопровождается ощущением рабства и зависимости от «не-я». Первоначально «я» есть все, и все есть «я», и лишь позже открывается «не-я», и от этого ощущения «я» получает особую остроту и мучительность. Различие, которое делают между je и moi, между anima и animus, есть уже вторичное и оно связано с духовным ростом «я».[75] Путь лежит от недифференцированного единства «я» с миром через дуализм «я» и «не-я» к конкретному единству всякого «я» с «ты» при сохранении преображенного множества.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Я и мир объектов"
Книги похожие на "Я и мир объектов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Бердяев - Я и мир объектов"
Отзывы читателей о книге "Я и мир объектов", комментарии и мнения людей о произведении.