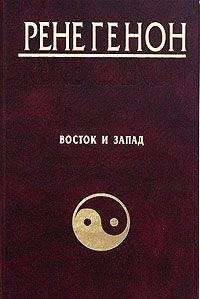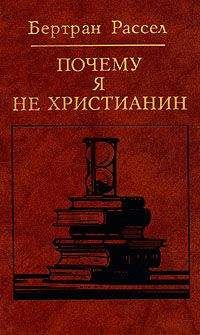Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА."
Описание и краткое содержание "ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА." читать бесплатно онлайн.
В книге философа и историка науки М.К.Петрова (1924-1987) исследуются проблемы взаимовлияния, общения и преемственности культур, прослеживаются генезис и пути образования разных культурных типов: индийской общины, западноевропейской античности, средневековья и нового времени.
Издание второе, стереотипное
Москва 2004
По ряду характеристик, прежде всего экономических, наш тип культуры за последние двести-полтораста лет значительно опередил другие типы, принял эстафету "развитости" от традиционных обществ, которые долгое время были лидерами культурного прогресса с точки зрения объема транслируемого знания. Общепризнанной причиной этого опережения и изменения статуса европейского типа культуры считается появление в этом типе опытной науки и институтов использования научного знания для обогащения и изменения технологического арсенала общества. Любые попытки перехода из "развивающегося" в "развитое" состояние сегодня осознаются как необходимость иметь на вооружении науку и соответствующий набор институтов для трансляции и трансмутации научного знания для технологических и иных приложений этого знания.
Страны традиционной культуры, не говоря уже об обществах лично-именного типа кодирования, не имели и, как мы покажем ниже, не могли иметь опытной науки и институтов технологического приложения научного знания в силу особенностей структурного строения их социокодов, особенностей каналов трансляции и соответственно институтов трансмутации. Для стран этой группы попытка завести науку и соответствующий набор институтов означает культурную революцию, замену традиционного социокода новым, близким по строению к европейскому. В каждом конкретном случае такая революция означает некоторую сумму перестроек и переделок, выразимую в терминах рационального социального действия – реформ в системе трансляции, - воспитания и образования и соответственно в системе трансмутации – накопления знания.
Чтобы теоретически обеспечить этот процесс, необходимо знание, в чем именно состоит специфика культурных типов, как возможна культурная революция, что именно должно быть изменено и чему уподоблено с наименьшими потерями, перегрузками, издержками для живущего поколения людей, т. е. в анализе культурной проблематики акцент сегодня необходимо переносится с того, что сближает и объединяет культурные типы, на то, что их действительно разделяет и что, видимо, тем или иным способом придется преодолевать в порядке культурной революции.
История человечества знает только два достоверных и хорошо документированных случая успешных культурных революций- японский и европейский. Японский, возможно, наиболее ценен для развивающихся стран, но изучение его затруднено, в частности, и потому, что соответствующая документация долгое время была закрыта на правах государственных секретов и практически остается почти неизвестной. Европейский случай уже не первое столетие открыт для изучения, но практически почти не изучался под тем специфическим углом зрения, который диктуется современной культурной ситуацией.
Перечисленные обстоятельства и определяют состав книги, направление и последовательность усилий автора. Сначала мы попытаемся привести распространенные представления о мире общения в соответствие с данными последних исследований и, по нашей оценке, открытий. Затем мы займемся более детальным описанием культурных типов, возможностей межкультурного общения, после чего, и это будет основной частью работы, мы попробуем пройти тот самый огорчительный для Нидама путь "от греков до европейского Ренессанса" с намерением выяснить, почему и как наша традиционная по исходу социальность взялась перестраивать социокоды и где-то на сотом-стопятидесятом живущем поколении создала науку.
Автор, естественно, не претендует на решение или даже постановку всех вопросов – одному здесь делать нечего, проблематика явно не по "вместимости" индивида. Но если мы действительно стремимся не на словах, а на деле, с пониманием и знанием дела к общечеловеческому единству, к взаимопониманию, к взаимной ответственности за судьбы нашего не такого уж большого и, к сожалению, достаточно хрупкого мира, кому-то нужно начинать и с первых проб, и с первых ошибок. В этом автор видит и свое оправдание, и свое право на изучение старого материала под новым углом зрения.
Мир общения в специфическом его срезе гражданского общения – доказательного рассуждения, аргументации, опровержения, спора и всего того, что древние называли диалектикой, искусством с равной убедительностью говорить и за и против на любую тему, - попадает в сферу внимания философии с момента ее возникновения. Мир общения настолько прочно утверждается в этой сфере сначала на правах частного предмета, а затем и на правах предмета, поглощающего другие предметы и объединяющего их в единое целое, что порой трудно бывает сориентироваться, где здесь причины, а где следствия: философия ли открывает мир общения, или мир общения открывает философию.
С этим вопросом нам предстоит еще разбираться как с весьма существенным моментом начального этапа европейской культурной революции. В данной главе, которую мы обещали посвятить поиску реалий мира общения и понятийного аппарата, позволяющего представить этот мир в целостной и интегрированной форме, для нас важны детали дисциплинарной биографии теоретического подхода к миру общения.
Начальный философский период теоретического освоения мира общения отмечен вниманием к речи-логосу, и это понятно: политическая жизнь греков включала на правах существенного определителя речь устную и письменную. Судьба свободного грека, как и судьбы греческих полисов-государств, решалась на народном собрании голосованием, и результаты голосования во многом зависели от качества речей выступавших. Жизнь свободного грека, его права и обязанности регулировались номосом – остановленной в письменности речью, ставшей законом жизни.
В эллинистический период, когда после завоеваний Александра Македонского началось культурное освоение греками обширных территорий Египта, Ближнего и Среднего Востока, где греческие колонии оказывались в привилегированно-полисном, но вместе с тем и в изолированном состоянии, интерес к речи-логосу, к форме и содержанию логоса в значительной степени сместился к форме – грекам в инокультурном и иноязычном окружении пришлось теперь проявлять беспокойство о "чистоте" и "правильности" греческого языка, о чем они раньше, судя по этимологическим упражнениям софистов, рассуждениям об истинности имен Платона, стилистическим советам Аристотеля, не имели ни малейшего понятия. Считалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что нормальный грек, рожденный в греческой семье и живущий в окружении греков, говорит так, как говорят все, вопросы о правильности или неправильности были здесь неуместны. В эллинистический период появилась опасность языкового разобщения "эллинов", опасность языкового смешения с "варварами", и как средство борьбы с этой опасностью появились грамматики, над сочинением которых особенно много работали в Александрии. С этим смещением интереса к правилу, форме мир общения начал вычленяться в предмет двух самостоятельных дисциплин – языкознания и логики.
Дальнейшие дисциплинарные перипетии в теоретическом освоении мира общения связаны с тем обстоятельством, что по ряду причин, о которых мы еще будем говорить, христианство, пытаясь наладить трансляцию духовности – подготовку кадров для церкви, - включило грамматику, риторику и диалектику в состав "тривия", трех первых и основных предметов изучения. Разработанные в III-II вв. до и. э. александрийцами Аристархом, Кратесом из Маллоса и их учениками Дионисием Фракийским, Аполлонием Дисколом и его сыном Геродианом грамматики греческого языка, а затем созданные по их образцу грамматики латинского языка Марка Теренция Варрона и особенно Доната и Присциана на полтора с лишним тысячелетия оказались замкнутыми в канале трансляции духовно-церковного фрагмента европейского социокода. И хотя, по мнению историков лингвистики, ничего с ними на этом периоде существенного не происходило, факт остается фактом: до начала XIX в., до Боппа, Раска, Гримма, лингвистика оставалась в тенетах тривия как его нераздельная часть и общение осмыслялось по канону Аристотеля и александрийцев, т. е. долговременное пребывание в канале церковной трансляции закрепило основные представления античности о мире общения, вывело их на уровень дисциплинарных постулатов.
С начала XIX в. начинается "свободное дисциплинарное" развитие лингвистики и логики, а с ним и выявление ряда дисциплинарных феноменов, в частности и феномена "научной революции", который обнаружен Куном. Как показал Кун в работе "Структура научных революций" [79] и в целом подтвердила дискуссия вокруг природы парадигматики [70], научные дисциплины вырабатывают единые для дисциплинарной общности, т. е. для живущего поколения ученых данной дисциплины, "парадигмы" – системы постулатов, правил, форм завершенного продукта, представлений о членениях предмета, что обеспечивает взаимопонимание ученых и возможность дисциплинарного признания результатов их исследования. "Ученые, чьи исследования основаны на общей парадигме, признают одни и те же правила и стандарты научной практики. Это признание и то очевидное взаимопонимание, которое таким признанием достигается, являются предпосылками нормальной науки, предпосылками генезиса и преемственности любой конкретной научной традиции" [79, с. 11].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА."
Книги похожие на "ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА."
Отзывы читателей о книге "ЯЗЫК. ЗНАК. КУЛЬТУРА.", комментарии и мнения людей о произведении.