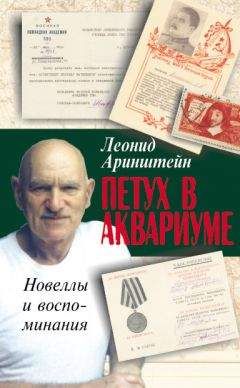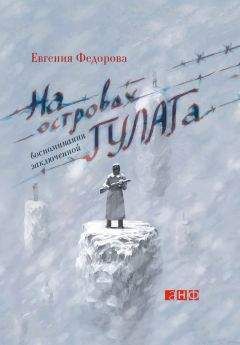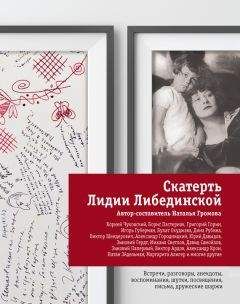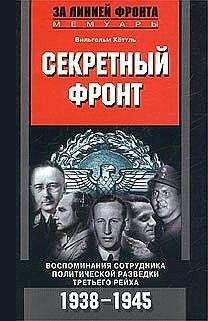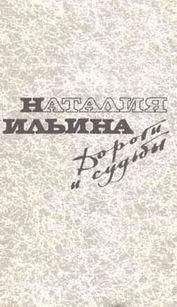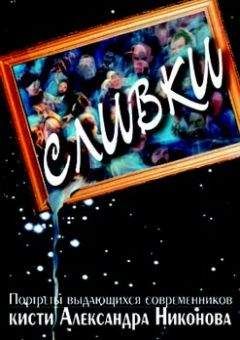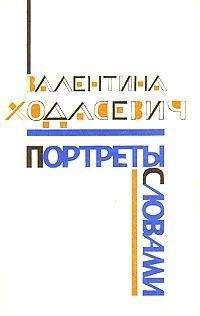Наталья Рапопорт - То ли быль, то ли небыль
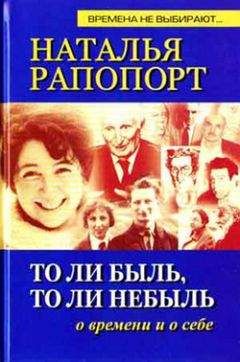
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "То ли быль, то ли небыль"
Описание и краткое содержание "То ли быль, то ли небыль" читать бесплатно онлайн.
Эта книга – ироничное, весьма забавное повествование о мрачных временах.
Автор одарен острым веселым умом и точностью зоркого наблюдателя. Автору есть о ком и о чем рассказать. Профессор-медик Я. Л. Рапопорт, ученый с мировым именем и знаменитый московский острослов. Его семья, его друзья. «Дело врачей». Кремлевская больница – «лагерь смерти». Чума в Москве…
Биография Н. Я. Рапопорт сплетена с судьбою многих незаурядных ее современников. В книге даны крупным планом портреты Юлия Даниэля, Зиновия Гердта, Георгия Федорова, Игоря Губермана, Сергея и Татьяны Никитиных…
Уникальные по содержанию, исполненные яркого юмора, воспоминания Н. Я. Рапопорт не затеряются в море русской мемуаристики.
Из руководителей Наркомздрава налицо оказался член Коллегии А. (многие ведь были в карантине). Его секретарша, знавшая меня, встретила меня очень приветливо и пошла доложить начальству. А минуту спустя дверь кабинета слегка приоткрылась, в щель просунулось перепуганное лицо той же секретарши, и она пролепетала, что согласно указанию А. я должен немедленно отправиться в карантин. Обозленный, я выпалил: «Передайте ему, чтобы он сам убирался к черту!» – и поспешил покинуть Наркомздрав, пока меня не заарканили. Затем я поехал на кафедру патологической анатомии в Яузскую больницу и оттуда позвонил жене, чтобы привезла мне чистое белье и другой костюм. Тщательно помывшись под душем и переодевшись, я поехал с женой домой, усталый и взволнованный всеми событиями прошедшей ночи. Но не успел я лечь в постель и уснуть, как раздался телефонный звонок. К телефону подошла жена, и по ее разговору я понял, что сейчас за мной опять приедут, на этот раз из Моссовета и из Управления здравоохранения, с тем, чтобы везти меня в Первую Градскую больницу (Б. Калужская улица, теперь Ленинский проспект) для производства чрезвычайно важного вскрытия, требующего моей компетенции. Жена, разумеется, догадалась, какого сорта вскрытие мне предстоит, и ответила категорическим отказом, сказав, что я сплю после трудного дня. Тем не менее, через полчаса раздался звонок в передней, и я услышал бурное объяснение жены с посетителями. Они говорили, что в хирургической клинике 1-й Градской больницы умер от чумы больной, что больница уже изолирована от внешнего мира, и нужно путем вскрытия подтвердить диагноз чумы. Жена возражала: «Неужели в Москве нет других опытных патологоанатомов?!», на что один из посетителей привел такой контраргумент: «Не можем же мы заражать чумой всех патологоанатомов!» Аргументация, безусловно, убедительная и корректная, но мою миролюбивую и деликатную жену она привела в исступление. Я понял, что имею дело с дураками, но в больнице, консультантом которой я был, создалась, по-видимому, сложная ситуация, нарушившая всю ее нормальную жизнедеятельность. Я не сомневался, что никакой чумы там нет, что все это – вздор, продиктованный страхом и паникой. Как потом оказалось, в этот день по примолкнувшей Москве поползли слухи о смерти от чумы чуть ли не в каждом районе города. В атмосфере одуряющего страха любая устрашающая версия принималась за достоверную, чему способствовали все предыдущие дни и годы, когда получали подтверждение, казалось бы, самые невероятные события и ситуации. Для обывателей в Москве в эти дни не было другой причины смерти, кроме чумы.
Я решил, что ехать надо, чтобы восстановить нормальную жизнь больницы и снять с медперсонала страх перед чумой, и в сопровождении посланцев Горздрава отправился в клинику. Там стояла удручающе мрачная атмосфера. Гробовая тишина. По опустевшим, притихшим коридорам бродят, как тени, сестры в глухих марлевых масках, в двойных халатах.
Встретивший нас дежурный врач изложил суть дела. В клинике был больной, молодой человек, оперированный накануне по поводу язвы желудка. Днем у него ухудшилось состояние: высокая температура, боли в животе. К нему вызвали для консультации доцента клиники В. И. К., впоследствии профессора и главного онколога Министерства здравоохранения СССР (известный ученый Н. Н. Петров, при обсуждении программы подготовки врачей-онкологов, сказал о нем по завершении этой работы: «Мы забыли записать, что главный онколог может ничего не знать»).
Так вот, этот доцент, будущий профессор, подошел к постели больного, приподнял простыню, увидел сыпь, покрывавшую тело больного, в испуге бросил простыню, произнес: «Чума» – и немедленно сбежал.
Слово было сказано, и завертелось колесо страха. Больной, оставшийся без помощи, вскоре умер.
Еще до вскрытия я заподозрил, что имею дело с одной особенностью, встречающейся у малоопытных и малодумающих хирургов (а это почти одно и то же): при ухудшении состояния больного после операции такие лекари думают о чем угодно – о гриппе, менингите – только не о послеоперационном осложнении или ухудшении основного хирургического заболевания. Так оказалось и на этот раз: перитонит с общим сепсисом и геморрагической сыпью. Никаких признаков чумы не было и в помине.
После вскрытия все стало на свои места: сняли маски повеселевшие сестры, раскрылись ворота больницы для приема больных, нуждавшихся в экстренной помощи и лишенных ее по милости В. И. К. Вот что могут сделать страх, паника и один дурак!
«Чумную» эпопею я хочу завершить рассказом, услышанным мною в Новоекатерининской больнице от профессора Лукомского, пока мы, как помнит читатель, перед вскрытием пили чай. Действующим лицом в рассказе Лукомского был доктор Р. – старший, посетивший Берлина в гостинице «Националь». Отправив Берлина в Новоекатерининскую больницу, Р. забыл об этом визите, занятый горькими мыслями о погибшем сыне. Поэтому полной неожиданностью стал для него, спустя сутки, ночной звонок в дверь. В ту пору ночной звонок мог предвещать только одно – ничего другого и в голову придти не могло. Р. открыл дверь и получил подтверждение этой версии в лице двух товарищей «из органов». Они предложили следовать за ними, не объяснив, куда и зачем (истинной целью их визита была изоляция Р. в карантине). Возможно, объяснить истинную цель визита мешала присутствовавшая при «аресте» жена доктора – ведь чума была засекречена. Да и само слово «карантин» в ту пору звучало двусмысленно.
О чем мог думать несчастный старик? Когда за вами ночью являлись два сотрудника «органов», выбор для размышлений был крайне ограничен – да, вообще говоря, его не было совсем. Р. пытался утешить жену, говорил, что произошло недоразумение, что он ни в чем не виноват – но ведь так говорили многие, если не все, в подобной ситуации.
Жена поспешно собрала необходимые вещи – «джентльменский набор» того времени. Авгуры сказали, что ничего не нужно брать. Р. возразил: «Я знаю, что «там» нужно». По дороге Р. выискивал в своей жизни поводы для ареста – и не находил (тоже стереотипная ситуация). Он уже начал думать, не связано ли это как-то с гибелью сына – может, того в чем-то посмертно обвинили?
Размышления его были прерваны прибытием в Новоекатерининскую больницу. И тут только встречавший его профессор Лукомский рассказал несчастному, в чем дело и какая болезнь была у больного Берлина, которого Р. направил в эту больницу. Р. пришел в неописумое возбуждение и стал просить у Лукомского разрешения позвонить старушке-жене, которую оставил в полном отчаянии. Лукомский, разумеется, разрешил. Дрожащими руками Р. взял телефонную трубку и ликующим голосом, не скрывая неожиданной радости, сказал жене буквально следующее:
– Не волнуйся, дорогая. Это я. Я звоню из Новоекатерининской больницы. Подозревают, что я мог заразиться чумой от больного. Поэтому не волнуйся, оказывается, ничего страшного, о чем мы с тобой думали – это только чума!
ЮБИЛЕИ
У папы было много юбилеев. Они шли один за другим, только успевай поворачиваться: 70, 75, 80, 85… И так далее.
Семидесятилетие пришлось на 1968 год. Папа вышел на сцену Мединститута, всю усыпанную цветами. Зал встал и долго ему аплодировал. Это было преклонение перед человеком, сумевшим сохранить человеческое достоинство в двадцатом веке в России, что, по единодушному мнению аудитории, было равносильно подвигу. Растроганный папа сказал так: «Вы приветствуете меня, как тенора или кинозвезду. Право, если бы я был тенор, я бы сейчас вам спел. Если бы я был артист балета, я бы вам станцевал. Но что может сделать для вас патологоанатом?!»
Самым ярким, самым значительным был юбилей девяностолетия. Мы едва на него пробились. Клуб «Медик» на улице Герцена был окружен плотной толпой. Она блокировала подступы к клубу и переливалась через мостовую на противоположный тротуар.
Дело в том, что за несколько месяцев до этого журнал «Дружба народов» опубликовал отрывок из папиной книги о «деле врачей». Это было свидетельство невольного участника событий, первое открытое описание советского государственного антисемитизма, который только чудом не закончился в 1953 году «окончательным решением еврейского вопроса».
С момента выхода журнала в свет наш телефон не умолкал ни на секунду. Звонили друзья и недруги, знакомые и незнакомые, пережившие «дело врачей» или знавшие о нем понаслышке. И вот теперь вся эта публика хотела попасть на папин юбилей, увидеть его живьем и услышать его голос.
Действуя где уговорами, а где и локтями, мы в конце концов оказались в зале. Мы – это папа, его вторая жена Катя, моя старшая сестра Ляля и я. Председательствовал Эдуард Белтов, который тогда еще не был израильским журналистом Эдди Баалем. Это он сделал из пятисотстраничной папиной рукописи журнальный вариант для «Дружбы народов» – и сделал блестяще!
В президиуме, кроме крупнейших медиков, редактор издательства «Книга» Тамара Владимировна Громова и главный редактор журнала «Наука и жизнь» Рада Никитична Аджубей. Рада опубликовала в своем журнале первую папину мемуарную работу – статью о Клюевой и Роскине «История одного несостоявшегося открытия». Эта публикация получила большой резонанс. Напомню ее содержание: чета ученых объявила о разработке ими эффективного противоракового препарата КР и написала книгу об этом открытии. Книга попала в руки Величайшего Медика Всех Времен и Народов. Сталин дал на нее восторженную рецензию, назвав ее «бесценный труд». Тем временем президент Медицинской академии академик В. В. Парин во время поездки по Америке поделился информацией о препарате КР с американскими коллегами. По возвращении в Союз его арестовали, и он провел около десяти лет во Владимирской тюрьме, в одной камере с пленными фашистскими офицерами. Между тем, как это часто случается, препарат, весьма активный в пробирке, оказался бессилен в пораженном опухолью организме. Ученые оказались в ловушке. Действительно, кто мог позволить себе признать вакцину КР неэффективной после того, как Сталин назвал открытие бесценным! Позволил себе только мой отчаянный отец… Каким-то чудом это сошло ему с рук. Его вызвали в Кремль, потребовали доказательств и объяснений. Папа показывал материалы и объяснял так доходчиво, что даже Первый Красный Командир Ворошилов что-то понял, и папу отпустили с миром. Открытие, к сожалению, не состоялось…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "То ли быль, то ли небыль"
Книги похожие на "То ли быль, то ли небыль" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Рапопорт - То ли быль, то ли небыль"
Отзывы читателей о книге "То ли быль, то ли небыль", комментарии и мнения людей о произведении.