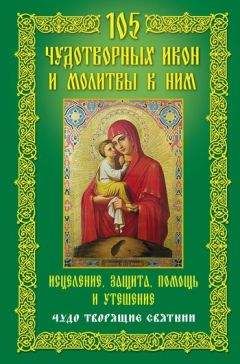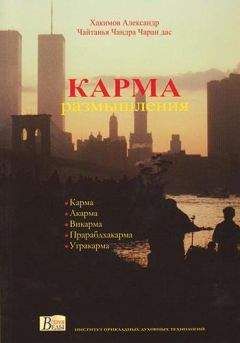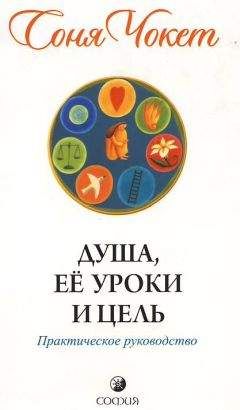Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2.
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Уроки сектоведения. Часть 2."
Описание и краткое содержание "Уроки сектоведения. Часть 2." читать бесплатно онлайн.
Я обращаюсь не к монахам, но совсем к иным читателям. Те люди, ради которых написана эта книга, болеют именно верой — точнее, суеверием. В порыве своей совести возжаждав истины, они обратились не к Евангелию, а к мишурным книжкам карма-колы. Их души, вскормленные на тощих хлебах “атеистической духовности”, и прежде были не слишком здоровы (да и “деятельной любви” их учили не так уж настойчиво). Прельщенные же оккультизмом, они лишь плотнее затянули повязки на своих глазах. Атеизм сменился язычеством. Насколько выветрилось представление о Боге из сознания людей, можно судить по такому высказыванию женщины, занимающейся вышиванием золотошвейных икон: “Я чувствую — если энергетика из Космоса сильна (я так называю вдохновение), значит, пора за работу”.
Доставлю удовольствие пантеистам и попробую немного поговорить «антропоморфно». Пантеистическая пропаганда кажется убедительной потому, что выглядит почти как модная ныне «борьба за права и свободы». Не смейте, мол, налагать ограничений на Божество… Но вот вопрос: а что именно является сковывающим ограничением? Есть я и есть сделанная мною табуретка. Есть я и продуманная мною мысль и написанная мною книга. Есть я и пережитое мною чувство. И вдруг кто-то мне говорит: «Ты и есть эта табуретка. Ты есть эта мысль. Ты и эта книга - одно. Ты и это чувство тождественно-нерасторжимы». Что это значит? Это и значит, что такой зритель (тот, кто смотрит на меня со стороны) запер меня в этих случайных эпизодах и внешних проявлениях. Он как раз ограничил меня, не позволил мне быть другим по отношению к этим эпизодам моей жизни и моего творчества. И как для меня все, сделанное моими руками, неравно мне самому, нетождественно мне и не является мною – так и в отношениях Бога с Его созданиями. Свести Бога к Его созданиям и значит ограничить Его. Оставить Бога без права на мысль - и значит ограничить Его.
Таким образом, утверждение личностности Божества есть на деле апофатическое, мистико-отрицающее богословие. Это не заключение Непостижимого в человеческие формулы, а освобождение Его от них. Сказать, что Божество лишено разума, любви, свободы, целеполагания, личностности, самосознания значит предложить слишком заниженное, слишком кощунственное представление об Абсолюте. Следовательно, пантеизм отрицается христианской мыслью по тем же основаниям, по которым ею отвергаются языческие представления о богах как о существах телесных, ограниченных, не всеведущих[76] и грешных. Утверждение личности в Боге есть утверждение полноты божественного бытия.
Отрицание этой личностности означает не “расширение”, но, напротив, обеднение наших представлений о Боге. В конце концов если разумное бытие мы считаем выше разумолишенного, если свободное бытие мы полагаем более достойным, чем бытие, рабствующее необходимости, то почему же то, что мы считаем Богом, то есть бытие, которое мы считаем превосходящим нас самих, мы должны мыслить лишенным этих достоинств?
Пылинка, обладающая самосознанием бесконечно достойнее громадной галактики, не сознающей себя и своего пути. «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы ее раздавить; облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает» (Паскаль. Мысли. 200 [347]).
Если философ признает превосходство сознания над бессознательным миром - то он не может не признать вслед за Унамуно: “Но пусть кто-нибудь скажет мне, является ли то, что мы называем законом всемирного тяготения, или любой другой закон или математический принцип, самобытной и независимой реальностью, такой, как ангел, например, является ли подобный закон чем-то таким, что имеет сознание самого себя и других, одним словом, является ли он личностью?.. Но что такое объективированный разум без воли и без чувства? Для нас - все равно, что ничто; в тысячу раз ужасней, чем ничто”{210}.
Если “мыслящий тростник” ценнее, чем дубовый, но безмозглый лес, чем всегда справедливые и вечно бесчувственные законы арифметики и чем безличностные принципы космогенеза - то человек, сознающий себя, оказывается неизмеримо выше и бессознательного “Божества” пантеистов. Почему же теософский холодный и бездушный абсолют подается как единственный вариант понимания всесовершенного Бога? Кто более совершенен: тот, кто спокойно и равнодушно пройдет мимо сбитого машиной человека, или тот, кто бросит все, и поможет ему? Исходя из теософского понимания совершенства как полной самодостаточности, именно равнодушный более совершенен...
Если же религия ищет в Боге Помощника и Покровителя, ищет обрести в Нем Владыку, Господа - то, значит, попытки пантеистического обезличивания божественного надо признать и антирелигиозными, и антифилософскими.
Итак, персоналистическая критика пантеизма - это отрицание отрицаний. “Нельзя запрещать!” Нельзя запрещать Богу думать! нельзя запрещать Богу быть Личностью!
Христиане согласны с позитивными утверждениями пантеизма: Божество неограниченно и мир пронизан Божеством. Разница здесь будет лишь в том, что пантеисты скажут, что Бог в Своей сущности проницает мир, а христиане — что Он проницает Своими энергиями. Это было бы не более чем спором о словах, если бы пантеистический тезис не влек некоторые весьма важные негативные последствия. Именно с этими отрицаниями пантеизма христиане не согласны. Мы не согласны с отрицанием в Боге личного разума, личной воли, а также надмирной свободы Бога.
Теперь присмотримся повнимательнее к пантеистическому тезису о том, что личность означает ограниченность.
Если бы философская мысль христианства осталась в рамках понимания личности, индивидуального бытия как одного из частных носителей общей природы, отличного и тем самым противопоставленного другим носителям той же природы (а тем более ипостасям других сущностей) – то такой ход мысли был бы естественен.
Но вновь вспомним, что язык философии, мифологии, богословия есть язык притчевый, а потому подчеркнуто конвенциональный (условный): слово имеет тот смысл, который условились ему приписать люди, говорящие на этом языке (отсюда, кстати, постоянные проблемы теософов: они пробуют прибрать к рукам термины чужих религиозных традиций, обратив их для изъяснения совершенно иных взглядов).
Вот встречаем мы суждение: «если не будете как дети…». Для одного человека «ребенок» – это символ беззащитности и несамостоятельности, для другого – неразвитости и глупости, для третьего – источник шума, беспорядка и грязи… Текст Писания непонятен вне традиции его толкования, которая подчеркивает, что ребенок притчи – это символ доверчивости и беззлобия. И во всяком случае призыв уподобиться ребенку не стоит понимать как призыв к употреблению сосок.
В притче подобие в одном отношении предполагает неподобие во всем остальном. Если некий мистик скажет, что Бог есть свет, то ведь не стоит понимать его слишком буквально, и предполагать, будто он считает, что Божественное бытие есть частный случай тех феноменов, чье поведение описывается теорией корпускулярно-волнового дуализма… И Фалес, утверждавший, что первопричиной всего была вода, вряд ли имел в виду ту жидкость, два литра которой он выпивал за день.
Так вот, когда христианская традиция говорит о Боге как о Личности, нет у нас желания тем самым сказать, будто Бог ограничен.
Личность совсем не есть “ограниченность”; личностное бытие не исчерпывается отрицательными характеристиками (противопоставление себя и другого, индивидуации и т. п.); утверждение личностности есть утверждение положительности и наполненности бытия.
Личность - средоточие духовной жизни, а не ее границы. Границы не стоит отождествлять с центром. Личность не есть ограниченность хотя бы по той причине, что ограниченность не есть личностность: ограниченных существ много. Но они именно безличностны. Ограничен ли камень? А есть ли у него личность?.. «Личность, значит, заключается не в границах бытия, не в сформированности, ограничивающей известное существо и отделяющей его от других существ, а в чем-то другом. Это нечто – есть не что иное как самообладание, - частнее, самосознание, соединенное с самоопределением и самоощущением»{211}.
По справедливому замечанию С. Верховского, “Личность не есть замкнутость или обособление,.. личность не есть какое-то конкретное содержание бытия, но лишь его носительница, всему открытая и могущая всем обладать... Вообще никакое свойство не может быть отождествлено с личностью: оно может только принадлежать ей”{212}. Любые содержательные, конкретно-ограниченные характеристики относятся не к личности, а к тому, чем эта личность владеет. Так что даже давая Божеству позитивные определения (всеведение или всеблагость), мы не даем конкретно-ограниченной характеристики Личности Бога, но говорим о свойствах той природы, которой владеет Божественная Личность.
Как видим, даже в применении к человеку христианская мысль не понимает личность как ограниченность. Когда же речь идет о перенесении этой категории в область богословия, то тут специально оговаривается, что личностность Бога есть указание на сознательную полноту Его бытия, а не приписывание Ему ограниченности или подверженности страстям. Поскольку антропомофизм в нашей речи о Боге неизбежен, то приходится различать – в чем он терпим, а в чем - нет. «Говорят, что представлять первопричину мира обладающей личным бытием значит антропоморфизировать Бога, т.е. мыслить Его в образе тварного существа – человека. Но это возражение имело бы силу в том лишь случае, если бы мы переносили на Бога свойства личности с теми ограничениями и несовершенствами, с какими они являются в человеке»{213}. «Дурной антропорфизм был не в том, чтобы придавать Богу характер человечности, сострадательности, видеть в Нем потребность в ответной любви, а в том, чтобы придавать Ему характер бесчеловечности, жестокости, властолюбия»{214}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Уроки сектоведения. Часть 2."
Книги похожие на "Уроки сектоведения. Часть 2." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2."
Отзывы читателей о книге "Уроки сектоведения. Часть 2.", комментарии и мнения людей о произведении.