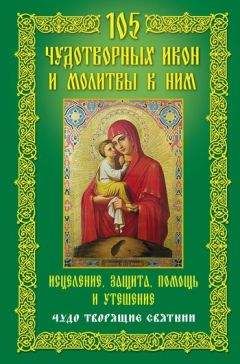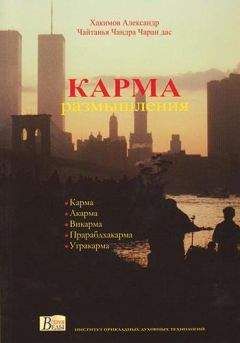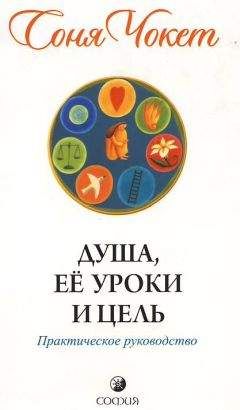Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2.
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Уроки сектоведения. Часть 2."
Описание и краткое содержание "Уроки сектоведения. Часть 2." читать бесплатно онлайн.
Я обращаюсь не к монахам, но совсем к иным читателям. Те люди, ради которых написана эта книга, болеют именно верой — точнее, суеверием. В порыве своей совести возжаждав истины, они обратились не к Евангелию, а к мишурным книжкам карма-колы. Их души, вскормленные на тощих хлебах “атеистической духовности”, и прежде были не слишком здоровы (да и “деятельной любви” их учили не так уж настойчиво). Прельщенные же оккультизмом, они лишь плотнее затянули повязки на своих глазах. Атеизм сменился язычеством. Насколько выветрилось представление о Боге из сознания людей, можно судить по такому высказыванию женщины, занимающейся вышиванием золотошвейных икон: “Я чувствую — если энергетика из Космоса сильна (я так называю вдохновение), значит, пора за работу”.
Как странно – она только что вполне конкретно охарактеризовала Бога – «внутренний человек», но выдала это за путь «апофатики». Более того, отождествив Бога и человека, она не заметила, что совершила именно грубейшую антропоморфизацию представлений о Боге…
Таких противоречий теософские тексты содержат немало. Не буду скрывать – и в христианском богословии много неясностей и противоречий. Как и в любой философской или научной системе. Но здесь уместно осознать:
1) замечает ли сама эта система наличие в себе этих «белых пятен» и собственных противоречий. Если не замечает – это значит, что она слепа даже по отношению к себе, а не только по отношению к предмету своей речи. Такая система остается на уровне пропаганды или мифа, но она не поднялась до уровня рефлексии и философии. Боюсь, что на уровне мифа осталась и теософия – именно в силу присущей ей некритической самоуверенности, самовлюбенно полагающей, будто она в силах ответить на «все запросы»[72].
2) Если противоречия в этой системе замечены и осознанны, то такую систему надо сравнить с другими – на предмет неизбежности именно этих пятен и противоречий. Быть может, окажется, что число интеллектуальных препятствий, что создала данная система, превосходит число трудностей, которые оказались неразрешимыми в альтернативной модели. И тогда вторая модель должна быть принята как более успешная. Если из двух сопоставляемых систем одна требует большего числа «жертв разумом», чем другая, то избрать надо не ее. А для того, чтобы заметить, когда именно, по каким поводам, насколько обоснованно и как часто та или иная религиозная система оставляет разум «за бортом», и надо обратиться к помощи как раз разума.
Религия есть факт человеческой жизни. Чтобы она была фактом жизни именно человеческой, а не бессознательно-животной, она должна быть и фактом человеческой мысли. А раз мысль о Боге у людей все же есть, то она должна быть именно мыслью, а не просто иероглифом. Осознав недостаточность всех наших слов и концепций, надо среди них отобрать такие, которые меньше унижали бы Божество.
Поставим такой вопрос - осознает ли само христианство проблематичность своих представлений и недостаточность терминов?
Да. По признанию своих ведущих мыслителей и апологетов, «христианство - единственная в мире религия, имеющая непостижимую догматику»{189}. Встреча с тайной не повод к тому, чтобы закрыть на нее глаза или отвернуться от нее или же отрицать ее. Противоречие надо принять как противоречие. Непостижимость - в качестве именно непостижимого. «Лучше недоумевающим молчать и веровать, нежели не верить по причине недоумения», - советовал св. Афанасий Великий{190}.
Христианская мысль крайне осторожна в своих суждениях о Боге. Язык богословия – неизбежно и сознательно притчевый: как персонаж притчи лишь одной своей чертой сходствует с тем, кому притча адресована («будьте как голуби» не стоит воспринимать как призыв отращивать перья), так и в богословии – если о Боге сказано, что Он – Личность, не следует сразу на Него переносить все те черты, которые мы связываем с человеческими личностями (прежде всего – противопоставленность, разделенность и ограниченность). В Троице «нет ни единого в смысле Савеллиевом, ни трех в смысле нынешнего лукавого разделения»;{191} Лица Божества «и единичнее вовсе разделенных и множественнее совершенно единичных»{192}; в Троице «единение и различение непостижимы и неизреченны»{193}. Троичность оказывается за пределами человеческого опыта моноипостасности человека.
Профессор православного богословия в Оксфорде – епископ Константинопольского Патриархата (и этнический англичанин) Каллист (Уэр; Ware) справедливо сказал: «Бог не является личностью - точнее, тремя личностями — в том же смысле, в каком личностями являемся мы. Однако это утверждение означает не то, что Бог менее личностен, чем мы, но, наоборот, что Он бесконечно более личностен»{194}.
Неизбежная противоречивость наших представлений о Боге православную мысль скорее радует: ведь Бог – это не мы, и потому было бы странно, если бы Его взгляд был бы всегда тождественен нашим представлениям. Противоречия здесь не разрушительны, а созидательны. Их наличие есть признак того, что мы прикоснулись к «антиномистической трансцрациональности бытия»{195}. Это здесь мы живем в мире «или-или». Или один или три. Или присутствие или остутствие. Но, по небезосновательной мысли С. Франка, «категориальное отношение либо-либо не имеет силы в отношении непостижимого. Непостижимое вообще лежит по ту сторону категорий тождества и инаковости и выразимо лишь в антиномистическом единстве того и другого»{196}.
Перелагая такую философию в поэзию, Владимир Соловьев{197} смог так сказать о Боге:
Едино, цельно, неделимо
Полно созданья своего,
Над ним и в нем невозмутимо
Царит от века божество.
Осуществилося в нем ясно
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь.
Всегда различна от вселенной
И вечно с ней съединена,
Она для сердца несомненна,
Она для разума ясна.
Итак, «несогласимое согласно» – в частности, когда мы мыслим отношения Божественной любви и созданного ею мира: «Всегда различна от вселенной И вечно с ней съединена». Ни то, ни другое ощущение (и убеждение) нельзя потерять.
Апофатика в христианстве – это забота о том, чтобы не потерять Бога, не отнять что-то важное от Него. Пантеизм, стараясь не потерять присутствия Бога в камне и море, в итоге отбирает у Бога право на мысль, свободное творчество и Сверхкосмическое быьие. Православие считает такое ограничение Бога неуместным. Жертва тут слишком велика.
Если мы не можем понять образа Божия бытия – из этого еще не следует, что Бог не имеет права на существование. Если тебе показалось, что логически невозможно представить себе, как это Единое может сознавать многое, как Вечный ум может мыслить процессы, происходящие во времени – то лучше осознай, что этот парадокс есть лишь свидетельство о немощи твоего, относительного ума, но не делай из этого своего затруднения вывод о Разуме Бога, не лишай Бога права на мысль. Блаватская проявляет поразительный антропоморфизм, отождествляя логику человеческую и логику Божию: мол, раз нечто кажется противоречивым нам, то это будет противоречием и с точки зрения Бога. Если нечто невозможно для нас – это невозможно и для Абсолюта… Но Бог давно предостерег нас: "Мои мысли - не ваши мысли… Человекам это невозможно, Богу же всё возможно" (Ис. 55,8; Мф. 19,26). Блаватская же не то что уравнивает человеческую логику с божественной, но еще и себя делает разумнее Бога, который не умеет ни думать, ни осознавать свои собственные действия, ни помогать кому бы то ни было…
Христианам сказано, что “Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом” (Мф. 6,32). Теософам же повелено: “Как можно полагать, что Абсолют думает, то есть имеет какое-то отношение к чему бы то ни было ограниченному, конечному и обусловленному? Это философский и логический абсурд. Даже каббала иудеев отвергает эту мысль”{198}.
Это видимость логики и философии. Логично было бы мыслить о Боге иначе, более уважительно. Если мы не можем понять, как Бог может присутствовать везде и не быть ограниченным этим Своим присутствием, быть при этом Иным по отношению к миру – мы должны просто признать немощь нашего расссудка, а не заточать Творца в космическую клетку: «Божеству свойственно быть везде, все проницать и ничем не ограничиваться»{199} - «ничем», в том числе и «всем» составом космоса. Рерих считает иначе: «Царство Божие внутри нас и нигде больше»{200}.
В книгах Блаватской более всего поражает отсутствие живого мистицизма. Происходит перебирание цитат из различных масонских «хандбуков», а взрыв эмоций направлен лишь на многочисленных оппонентов. Блаватская не столько любит, сколько ненавидит. Она импотентно-бесстрастна, когда речь заходит о самом дорогом в религиозном опыте – о Боге, о переживании мистического единства с Ним. Не чувствуется в ней апофатического импульса, за ее книгами не ощущается такого опыта, который ревниво отбрасывал бы привычные слова, клише – ради того, чтобы остаться один на один с Несказанным.
Поэтому о ее системе нельзя сказать как об апофатической. Это типичный скептицизм, причем довольно воинствующий. Скептик (агностик) просто отказывается познавать Бога, в то время как богослов, работающий апофатическим методом, именно работает. Агностик отворачивается от солнца и говорит, что само существование солнца недоказуемо, и уж совсем бессмысленно всматриваться в него. Богослов же заметил солнце, признал его и до некоторой степени даже был обожжен им. И вот он как бы берет разноцветные стеклышки и через них смотрит на солнце. Конечно, каждое стеклышко затемняет, ограничивает солнечное сияние. Но во-первых, вообще без стеклышек смотреть на солнце было бы просто невозможно. Во-вторых, лучше смотреть на солнце через затемняющие очки, чем вообще всю жизнь прожить в темной пещере. И, в-третьих, каждое новое стеклышко (то есть человеческое слово или формула) все-таки позволяет уловить какой-то новый оттенок Солнца Правды. И даже если оно заведомо не подходит — это тоже результат: мы узнали, что Бога нельзя представлять себе вот так…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Уроки сектоведения. Часть 2."
Книги похожие на "Уроки сектоведения. Часть 2." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Кураев - Уроки сектоведения. Часть 2."
Отзывы читателей о книге "Уроки сектоведения. Часть 2.", комментарии и мнения людей о произведении.