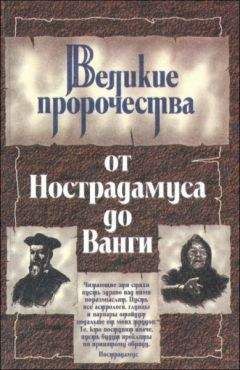Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"
Описание и краткое содержание "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" читать бесплатно онлайн.
Мишель-Поль Фуко (1926 - 1984) - французский философ, историк и теоретик культуры, видный представитель современного французского структурализма. Предлагаемая Вашему вниманию книга "Слова и вещи", впервые вышедшая на русском языке более 17 лет назад, сейчас практически недоступна и является единственной работой философа, опубликованной у нас в стране.
Именно здесь размещается та новая эпистемологическая область, которую классический век назвал «всеобщей грамматикой». Было бы ошибкой видеть в ней всего лишь чистое и простое приложение логики к теории языка. Но столь же ошибочно стремиться истолковать ее как предвосхищение лингвистики. Всеобщая грамматика — это изучение словесного порядка в его отношении к одновременности, которую она должна представлять. Таким образом, ее собственным объектом оказывается не мышление, не язык, а дискурсия, понимаемая как последовательность словесных знаков. Эта последовательность по отношению к одновременности представлений является искусственной, и в этой самой мере язык противостоит мышлению как обдуманное — непосредственному. Но тем не менее эта последовательность не является одной и той же во всех языках: некоторые языки помещают действие в центр фразы, другие — на конец, одни сначала называют основной объект представления, другие — сопровождающие обстоятельства. Как отмечает «Энциклопедия», иностранные языки становятся непрозрачными друг для друга и столь трудными для перевода именно из-за несовместимости их последовательности, а не только из-за различия слов. По отношению к очевидному, необходимому и универсальному порядку, вводимому наукой, и в особенности алгеброй, в представление, язык является спонтанным, необдуманным; он является как бы естественным. Согласно точке зрения, с которой его рассматривают, язык столь же является уже проанализированным представлением, сколь и рефлексией в ее первоначальном состоянии. По правде говоря, он является конкретной связью представления с рефлексией. Он не столько орудие общения людей между собой, сколько тот путь, посредством которого представление необходимым образом сообщается с рефлексией. Именно поэтому Всеобщая грамматика приобрела такое значение для философии в течение XVIII века: она была целиком и спонтанно формой науки, как бы логикой, не контролируемой умом,[84] и первым рациональным анализом мышления, то есть одним из самых первых разрывов с непосредственным. Она представляла собой как бы философию, присущую уму («какая только метафизика, — говорит Адам Смит, — не была необходима для образования малейшего из прилагательных») 2, и то, что вся философия должна была принять во внимание, чтобы найти среди столь различных возможностей выбора необходимый и очевидный порядок представления. Язык является исходной формой всякой рефлексии, первой темой всякой критики. Именно эту двусмысленную вещь, столь же широкую, как познание, но всегда присущую представлению, Всеобщая грамматика берет в качестве объекта.
Однако необходимо тут же сделать некоторые выводы.
1. Отчетливо видно, как в классическую эпоху разграничиваются науки о языке. С одной стороны, Риторика, рассуждающая о тропах и фигурах, то есть о способе, каким язык приобретает пространственную форму в словесных знаках; с другой — грамматика, рассуждающая о сочленении и порядке, то есть о способе, каким анализ представления располагается согласно последовательной серии. Риторика определяет пространственность представления, рождающуюся вместе с языком; Грамматика определяет для каждого языка порядок, который распределяет эту пространственность во времени. Вот почему, как это будет видно в дальнейшем, Грамматика предполагает риторическую природу даже у самых примитивных и спонтанных языков.
2. Грамматика, как рефлексия о языке вообще, обнаруживает отношение языка к универсальности. Это отношение может принимать две формы соответственно тому, что принимается во внимание — возможность Универсального языка или же Универсальной дискурсии. В классическую эпоху универсальным языком называют не тот примитивный, нетронутый и чистый язык, который мог бы восстановить — если бы этот язык можно было вновь найти, презрев все кары забвения, — существовавшее до вавилонского столпотворения взаимное понимание. Речь идет о таком языке, который был бы способен дать каждому представлению и каждому элементу каждого представления знак, посредством которого они могут быть обозначены однозначным образом; этот язык был бы также способен указать способ сочетания элементов в представлении и их взаимную связь; обладая инструментами, позволяющими указать все возможные отношения между частями представления, он мог бы благодаря этому охватить всё возможные порядки. Являясь одновременно Характеристикой и Комбинаторикой, универсальный язык не реставрирует старый порядок: он изобретает знаки, синтаксис, грамматику, где весь мыслимый порядок должен найти свое место. Что касается Универсальной дискурсии, то она тоже не является единственным и неповторимым Текстом, хранящим в шифре своей тайны ключ к любому знанию; он, скорее, является возможностью определить естественное и необходимое движение ума от самых простых представлений до самых тонких анализов или до самых сложных соединений: эта дискурсия есть знание, расположенное в единственном и неповторимом порядке, предписанном ему его происхождением. Он обозревает все поле знаний, но, так сказать, подземно, для того, чтобы выявить их возможность, начиная с представления, показать их рождение и обнаружить их естественную, линейную и универсальную связь. Этим общим знаменателем, этой основой всех знаний, этим источником, обнаруживаемым в непрерывности дискурсии, является Идеология, язык, который на всем своем протяжении удваивает спонтанную нить познания: «Человек по природе своей всегда стремится к самому доступному и самому скорому результату. Прежде всего он думает о своих потребностях, потом о своих удовольствиях. Он занимается сельским хозяйством, медициной, войной, практической политикой, потом поэзией и искусством, прежде чем думать о философии; и когда он обращается к самому себе и начинает размышлять, он предписывает правила своему суждению — это логика, своим речам — это грамматика, своим желаниям — это мораль. Он считает себя в таком случае на вершине теории»; однако он замечает, что все эти операции имеют «один общий источник» и что «этот единственный центр всех истин есть познание его интеллектуальных способностей».[85]
Универсальная Характеристика и Идеология противостоят друг другу как универсальность языка вообще (он развертывает все возможные порядки в одновременности одной основной таблицы) и универсальность исчерпывающей дискурсии (она воссоздает неповторимый и значимый генезис каждого из всех возможных познаний в их сцеплении). Однако их проект и их общая возможность коренятся в приписываемой классической эпохой языку способности: давать знаки, адекватные всем представлениям, какими бы они ни были, и устанавливать между ними все возможные связи. Язык с полным правом является универсальным элементом в той мере, в какой он может представлять все представления. Должен существовать язык (или по крайней мере может), который собирает в своих словах тотальность мира, и наоборот, мир, как тотальность представимого, должен обладать способностью стать в своей совокупности Энциклопедией. И великая мечта Шарля Бонне выявляет здесь то, чем является язык в своей связности и в своей принадлежности представлению. «Мне нравится рассматривать несметное множество Миров как множество книг, собрание которых образует огромную Библиотеку Вселенной или истинную универсальную Энциклопедию. Я сознаю, что чудесная градация, имеющаяся среди этих различных миров, облегчает высшим умам, которым было дано их обозревать или, скорее, читать, достижение истин любого рода, которые содержит в себе и вкладывает в их познание этот порядок и это последовательное развитие, составляющие их самую существенную красоту. Но эти небесные Энциклопедисты не владеют все в одинаковой степени Энциклопедией Вселенной; одни из них владеют лишь несколькими ее областями, другие владеют большим их числом, третьи схватывают еще больше, но все они обладают вечностью для роста и совершенствования своих знаний и развития всех своих способностей».[86] На основе этой абсолютной Энциклопедии люди создают промежуточные формы сложной и ограниченной универсальности: алфавитные Энциклопедии, размещающие возможно большее количество знаний в произвольном буквенном порядке; пазиграфии, позволяющие записывать согласно одной и той же системе фигур все языки мира,[87] поливалентные лексики, устанавливающие синонимы между более или менее значительным числом языков; наконец, толковые энциклопедии, претендующие «в меру возможности на то, чтобы раскрыть порядок и последовательное развитие человеческих знаний», исследуя «их происхождение и связь, причины, приводящие к их возникновению, и их отличительные особенности».[88] Каким бы частным ни был характер всех этих проектов, какими бы ни были эмпирические обстоятельства их разработки, основа их возможности — в классической эпистеме ; дело в том, что если бытие языка всецело сводилось к его функционированию в представлении, то последнее соотносилось с универсальностью лишь через посредство языка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"
Книги похожие на "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мишель Фуко - Слова и вещи. Археология гуманитарных наук"
Отзывы читателей о книге "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук", комментарии и мнения людей о произведении.