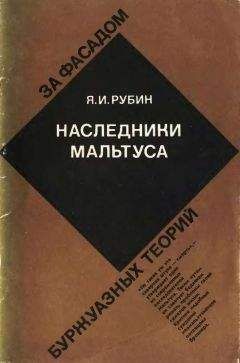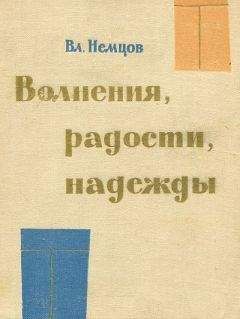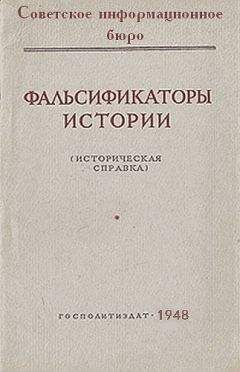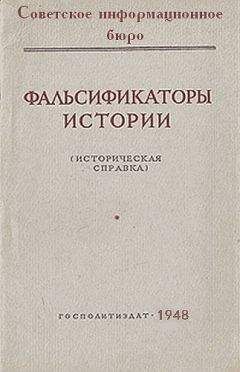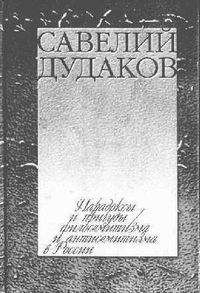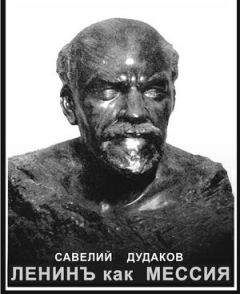Савелий Дудаков. - "История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"
Описание и краткое содержание ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв" читать бесплатно онлайн.
Под общей редакцией Д. А. ЧЕРНЯХОВСКОГО Издание осуществлено при содействии Фонда Дж. Сороса за счет средств автора Дудакова С. Ю. OCR и вычитка: Давид Титиевский, сентябрь 2008 г., Хайфа. Книга выложена в Библиотеке Александра Белоусенко по просьбе автора, Савелия Юрьевича ДУДАКОВА Автор предлагаемой читателю книги, известный израильский ученый Савелий Дудаков подробно и корректно проанализировал особенности развития литературы и общественно-политической мысли России второй половины XIX – начала XX в. Особое внимание уделяется массовой беллетристике этого времени, произведениям ныне забытых писателей -"второго ряда" Вс. Крестовского, Б. Маркевича, С. Эфрона, Н. Вагнера и др. Незабвенной памяти профессора Шмуэля Эттингера
Писатель В. Пикуль не преувеличивал, когда объявлял, что в "хронике" нет вымышленных героев и многое им было проверено по работам историков (отнюдь не неизвестных, а тем более "последних советских"). Автор утаил только одно: основной сюжет романа был документально-иллюстративным материалом "Протоколов Сионских мудрецов" с небольшими (в соответствии с современностью) отклонениями в германофобию, шпиономанию и полицейщину. Как бы там ни было, "своевременный роман" Пикуля в период активности "Антисионистского комитета" (органа КГБ) не противоречил общей линии партии и правительства: "Судьбы международных капиталов вообще запутаны. Но они трижды запутаны, когда проходят через руки сионистов. Деньги в этих случаях выносит наружу в самых неожиданных местах, словно они прошли через фановые глубины канализации" (6, 82), "Новое время" юридически уже находилось в сионистских руках, но Рубинштейн еще не приступал к делу…" (6, 86), "На одной из литовских мыз Мясоедов "был пойман на месте преступления"… Мясоедов, оказывается, не раз навещал Распутина… и все его помощники, арестованные вместе с ним, были связаны с финансовым окружением Распутина; если при этом вспомнить, что в охране Распутина служили германские агенты, то подозрения еще более усиливаются…" (6, 87). "Они заговорили о массовом производстве в кругу сионистов фальшивых дипломов на звание зубных врачей…" (6, 107) Климович в одну ночь арестовал свыше двухсот жуликов, которые, при всей их безграмотности, имели на руках дипломы дантистов… Для Симановича это было как гром среди ясного неба – сионисты пребывали в нервозном состоянии "шухера", обвиняя судей в закоренелом "антисемитизме" (6, 108). "В первую очередь, – признался Симанович, – мы искали людей, согласных на заключение сепаратного мира с Германией"(6, 113). «Палеолог записал: "Долго не забуду выражения его глаз… Я видел перед собой олицетворение всей мерзости охранного отделения". И сразу же попросил секретаря принести из архива секретное досье на Ванечку, в котором содержалась одна слишком "интимная" деталь из биографии Манасевича: в 1905 году он – выкрест! – был одним из устроителей еврейских погромов в Киеве и Одессе…» (7, 52).
Что ж, писательское чутье В. Пикуля не обмануло: следуя тезисам "Протоколов", можно было развернуть перед читателем страшную картину продавшейся, развращенной, порабощенной и преданной России, главным врагом которой были… сионисты: "…на подоконнике показалась фигура Борьки Суворина… издатель-черносотенец открыл трескучую канонаду из револьвера, крича при этом:
– Люди русские!.. Поганые захватили мою газету!
Закрутилась машина полицейского сыска… Подпольные связи финансовых воротил уводили очень далеко – вплоть до Берлина… "Это дело вызвало внимание всей России, – писал Аарон Симанович. – Я должен был добиться прекращения дела Рубинштейна, так как оно для еврейского дела могло оказаться вредным!" (7,78).
Так романом "У последней черты" была поставлена последняя точка: дело евреев, основных подсудимых в истории гибели Российского самодержавия и свершений русских революций, стало главным, а свидетелями обвинения выступила та самая темная сила "придворной камарильи и бюрократии", которую "зовут реакцией между двумя революциями" (4, 19). Советский читатель в 1979 г. открывал для себя не апокрифические и "полицейско-кликушеские", а документально выверенные и беллетристически оформленные "Протоколы Сионских мудрецов".
Писания В. Пикуля, В. Кочетова, И. Шевцова, публицистов "Октября", "Молодой гвардии", "Нашего современника" или "Кубани" в 1968-1985 гг. подготовили и унавозили почву для возникновения монархическо-шовинистической идеологии общества "Память", программой которого стала статья "Русофобия" академика по отделению математических наук, еще совсем недавнего диссидента И.Р. Шафаревича23.
Шафаревич с блеском, абсолютно не свойственным былым идеологам черной сотни и "разоблачителям" из белоэмигрантской элиты, предложил новое решение позабытой старой задачи на основе критики "либерально-интеллигентско-культурологического" движения, в авангарде которого оказалась, по его мнению, "третья волна" эмиграции.
Знакомя широкую советскую публику с неизвестными ей именами и работами литераторов (Г. Померанц, А. Амальрик, Б.Н. Шрагин, А. Янов, А. Синявский и др.) и цитируя столь же неизвестных ей мыслителей прошлого (француз О. Коши, немец М. Вебер, русский Л. Тихомиров, еврей Л. Пинский), Шафаревич решил добиться эффекта удивительной новизны и самостоятельности. А "космогонический" размах его рассуждений, иллюстрированных Библией, философией, литературой, исто 213 рией и политологией, должен был придать работе фундаментальность и доказательность.
Советский читатель, незнакомый с громадной антисемитской литературой начала века (не говоря уже о зарубежной), очевидно, не уловит модернизированную компиляцию академика: борьба "Малого" и "Большого" народов может восприниматься достаточно правдоподобно и прилагаться к происходящим в России процессам. Однако при текстовом сопоставлении логика "Русофобии" Шафаревича и логика работ "русских патриотов" оказываются "взаимодополняющими". Более того, опосредованное, а поэтому-то и неуловимое, но интегральное сходство концепций Шафаревича и его забытых коллег лишает "Русофобию" всякой самостоятельности. Говоря математическим языком, в его теореме правила доказательства вины евреев – те же, различны только "пространственно-временные образы" ("жидо-масоно-интеллигентский заговор" – заговор "Малого Народа", включающий евреев и интеллигенцию).
Не касаясь критики избранных Шафаревичем работ литераторов "третьей волны" (выбор авторов по большей части "из евреев" сам по себе красноречив), попытаемся "оголить" опосредованную логику математика и обнаружить ее источники. Другими словами, нас интересуют "позитивные взгляды" автора, а не его полемические контраверзы.
Прежде всего следует отметить определенную идеализацию Шафаревичем истории своего народа. Правда, это свойственно, вероятно, всем националистам. Так что ни в вину, ни в заслугу любовь к Отечеству поставлена быть не может. Однако идеализации бывают разными: одни возникают на гипертрофии отдельных положительных моментов, другие – за счет уменьшения значения недостатков.
Считая, что термин "самодержец" никак не означал "признания его права на произвол и безответственность, а выражал только, что он – суверен, не является ничьим данником (конкретно – хана)" (63, 101), Шафаревич смешивает генетическое с онтологическим. Впрочем, он сам вводит негативное отношение к "термину": "Яркий пример осуждения царя – оценка Грозного, не только в летописях, но и в народных преданиях…" (63, 101). Петр I прослыл в народе антихристом именно в силу своеволия, воспринимаемого оппозицией как антитрадиционное и антихристианское. Поэтому термин "самодержец" в приложении к Петру Великому – как раз означает "произвол" (ср. религиозный термин "беззаконие", который определяет антихриста).
Столь же противоречив и тезис о концепции "третьего Рима" ("Россия оставалась единственным православным царством… Русское царство будет стоять вечно, если останется верным православию"): "Эта теория не имела политического аспекта, не толкала к какой-либо экспансии или православному миссионерству. В народном сознании (например, в фольклоре) она никак не отразилась" (63, 102).
Во-первых, после Флорентийской унии и падения Константинополя, действительно, Россия была единственным самостоятельным православным царством (хотя православие сохранялось и в Болгарии, и в Македонии).
Во-вторых, падение Рима и падение Византии ("Второго Рима") было вызвано отнюдь не отпадением от "истинной веры" (христианство распространилось в Западной Римской империи в эпоху ее агонии, а в Восточной православие было государственной религией, и падение Константинополя было вызвано не религиозными причинами, что хорошо понимал "старец" Филофей). Усиление Московской Руси при Иване III не могло не вызвать аллюзий (и иллюзий). Для псковского монаха формула "Москва – третий Рим, а четвертому не бывать" (такова полная формула) – имела двойной смысл. Приравнивая Москву к Риму и Константинополю, Филофей превознес величину русского государства: ни империей, ни "Россией" в современном смысле – от Буга до Колымы – Московская Русь в то время не была. По занимаемой площади и численности населения Польско-Литовское королевство не уступало Московскому царству. С другой стороны, ересь жидовствующих и вызванные ею ассоциации с "концом времен" определяли эсхатологический смысл "третьего Рима": вслед за победой еретиков и кратковременным царствованием "сынов дьявола", по мнению Филофея, должно было наступить вечное царствие Божие, в котором ни Рима, ни Византии, ни Москвы не существовало бы, следовательно, четвертый Рим (апокалиптический) – быть не может.
Шафаревич насчет же фольклора просто "умолчал", поскольку "москво-центризм" ("Начинается земля, как известно, от Кремля" и т.д.) – явление достаточно хорошо знакомое в XVII-XX вв.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"
Книги похожие на ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Савелий Дудаков. - "История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв"
Отзывы читателей о книге ""История одного мифа: Очерки русской литературы XIX-XX вв", комментарии и мнения людей о произведении.