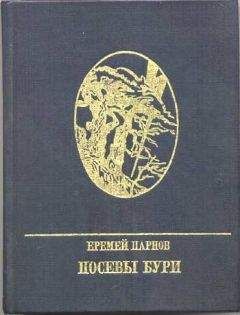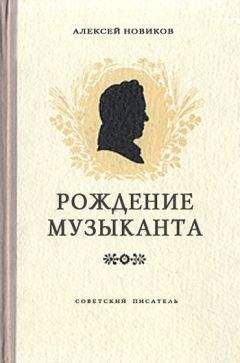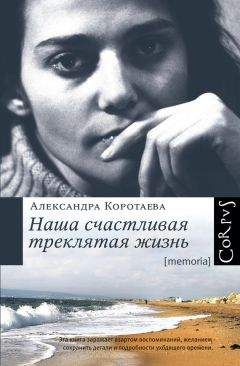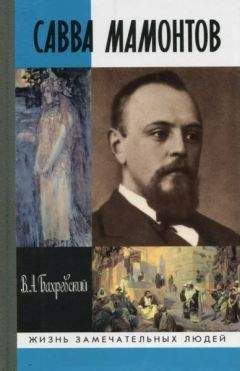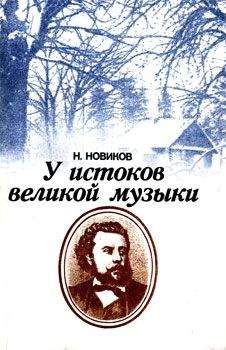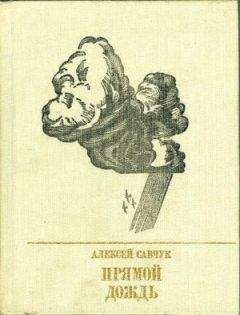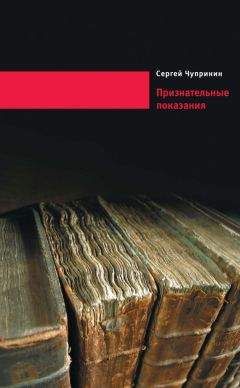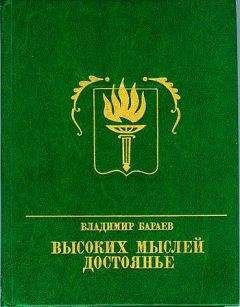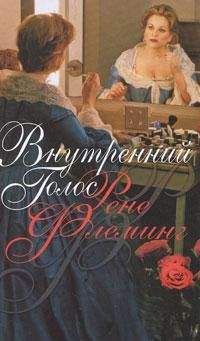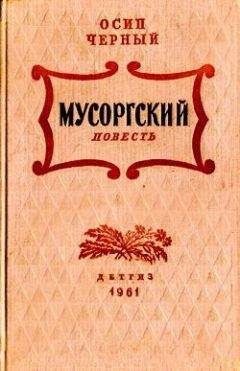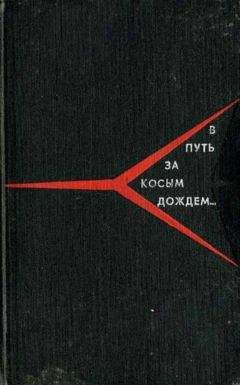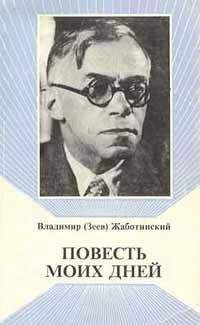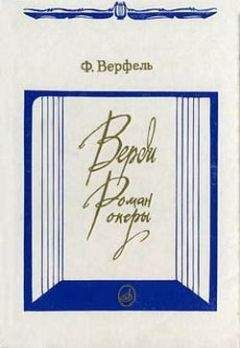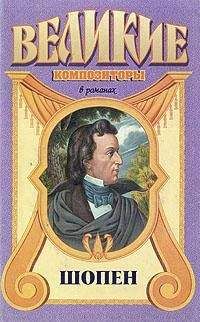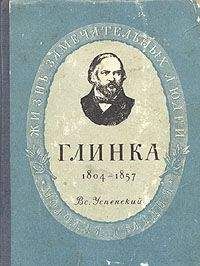Фаина Оржеховская - Пять портретов
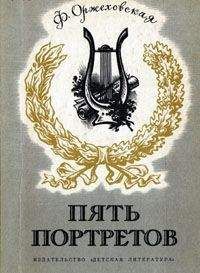
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пять портретов"
Описание и краткое содержание "Пять портретов" читать бесплатно онлайн.
Повести, входящие в эту книгу, за исключением повестей «Из разных далей» и «Последний сеанс», в которых сжато обрисовывается весь творческий путь Римского-Корсакова и Мусоргского, рассказывают об одном значительном, крупном произведении композитора.
Так, в повести о Глинке «Забытый черновик» действие разворачивается вокруг оперы «Руслан и Людмила». Но есть там и другие, побочные темы: Глинка и Стасов, последние годы Глинки, его поиски и стремления.
Главной темой повести «Щедрое сердце», ее «лейтмотивом» является опера Бородина «Князь Игорь».
Последняя повесть – «Счастливая карта» целиком посвящена опере «Пиковая дама». Читатель не найдет здесь истории работы над «Пиковой дамой» – повесть начинается как раз с окончания оперы и завершается ее первой постановкой. Промежуток от мая до начала декабря 1890 года, от окончания оперы до премьеры, – вот срок, который выбирает автор книги.
В книге «Пять портретов» много спорят, размышляют. Немало людей проходят перед нами: Балакирев и Стасов, Толстой и Боткин, Одоевский и Фигнер, Глазунов и Рубинштейн. Одни слегка очерчены, другие выступают ярко, на переднем плане. Но все они – далекие и близкие – составляли, окружение композиторов, оказывали на них влияние и потому вошли в эту книгу.
Нет, Балакирев не подавлял свойственное нам; этого никогда не было. Он угадал наши врожденные способности, отлично видел наши границы, а вот стремления-то наши не всегда понимал.
Не вдруг осознали мы заблуждения Милия, но помнится, что и в самое первое время, когда мы на все смотрели его глазами, кое-что казалось нам странным и даже огорчительным.
Помню, как однажды играл Балакирев фугу [50] Баха, а играл он прекрасно, и оттого фуга произвела сильное впечатление. И сам Милий – я готов поклясться в этом! – получил от фуги живейшее удовольствие. Это угадывалось и по горящим глазам его, и по тому, с каким жаром и вдохновением играл он. Но только замер последний звук, как Милий, не дав нам и слова вымолвить, стал разбирать фугу, доказывая ее мертвенность, окаменелость. Мы с недоумением переглянулись. А он продолжал разносить фугу. «Ее красота – он все-таки признал красоту! – застывшая, неживая!» Он умел говорить, и мы согласились с ним. Но музыка Баха все звучала в ушах и резко противоречила словам. В лице Корсакова я заметил выражение замкнутости, а Кюи как-то скептически усмехнулся… Впрочем, он всегда был скептиком.
В другой раз, при разборе Седьмой симфонии Бетховена, Милий всякий раз начинал: «Эта тема…» Боже упаси кого-либо из нас сказать: «Мелодия». Отлично зная, что тема – это технический термин, что мелодия может стать темой, а может и не стать, Балакирев вообще изгнал слово «мелодия» из нашего обихода. Мелодия, видите ли, это слащаво, это мендельсоновское понятие, сентиментальщина, а всякой не только сентиментальности, но и просто обнаружения чувства Балакирев, а за ним и все мы боялись, как огня. Мы напускали на себя грубоватую ироническую бесцеремонность – не только друг к другу, но и к почитаемым классикам. «Старик что-то ударился в слеэзы!» (через «э» – это о Бетховене). «Ну, тут пошла гнильца!» (о любимом Листе). Никаких авторитетов, никакого преклонения, долой нежности! А души у всех, по крайней мере у трех… нет, у четырех, были нежнейшие.
Мелодическое, мелодичное – это гнильца, сироп, благодушие или еще что-нибудь похуже. Так, обнаружив в анданте симфонии Бородина плавную, свежую, очень красивую фразу, Балакирев с неподражаемой язвительностью воскликнул: «А что это у вас, несравненная Солоха?» Я думал, Бородин оскорбится,– нет, он согласился изменить свою фразу… Перед Милием все мы… оставались немы».
А Кюи подчеркивал: «Не мы!»
…А эта метода Балакирева, поддержанная нами, разбирать музыкальную пьесу по кускам! Вот эти четыре такта хороши, а следующие – не годятся. Но как только Балакирев или я сам исполняли столь пестро разобранное сочинение, все казалось цельным, органичным: ведь целое-то не сумма частей!
Я был самолюбив и вначале ревновал Балакирева к Бородину и в особенности к его любимцу Корсакову. Иногда и обижался. Но – молчал: обижаться у нас не полагалось. А Бородина и Корсакова я очень любил… Нет, время было хорошее, и жаловаться мне не на что… Но все меняется, должно меняться…»
5
«…Вы Стасова любите, я знаю. И для меня он самый дорогой человек. Дай бог ему долгие годы быть таким, каков он есть, со всеми его противоречиями. Спорить с ним бесполезно. Разве можно спорить со стихией?
Не любить его нельзя. Я не знаю человека добрее: он готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь не только другу, но и недругу. Сколько раз я убеждался: еще вчера Стасов ругмя ругал противника в печати, изничтожал его, а сегодня, узнав, что противнику приходится плохо, спешит его утешить, или денег для него собрать, или похлопотать где надо. И навестит, если тот заболеет, и ухаживать станет. Но мнения своего не переменит и по-прежнему будет наступать на него, как на врага, носителя пагубных заблуждений.
Он бывает удивительно чуток. А что до эрудиции, то кажется, никто в России не знает столько, сколько успел узнать и запомнить этот человек. У него поразительный дар угадывать таланты. Впрочем, я не раз убеждался, что и очень маленькие дарования возбуждают в Стасове неумеренную радость: так сильно хочется ему поверить в новый талант.
Жизнь моя без Стасова неполна. Он и добрый гений мой, и невольный мучитель, хотя в этом я никогда и самому себе не признавался. Все это от противоречий стасовской натуры, а они столь же велики, как и сама эта Натура. Этот душевно тонкий человек бывает и ограничен, а порой и бестактен. Одно придуманное им название: «Могучая кучка» – ах, как оно нам, «Кучке», не нравилось! Но это что! Стасов может убить нелепостью своих выводов. Я и сам измучен им, хотя он всегда помышлял о моем благополучии.
И я знаю, что он станет оплакивать меня «чистосердечней, чем иной», и скорбь его по мне будет продолжительна.
Я называл его толкателем – думаю, это удачно. Он умел толкать, побуждать к действию, вдохновлять. Находил редкие источники, рылся в архивах – и все для нас, композиторов, живописцев. Если бы он только этим и ограничился: толканием, побуждением, советами! Но он брал на себя миссию судьи, а где судья, там и подсудимые, а где подсудимые, там, ясно, вина. А где вина, там и наказание.
Как это ни странно, ни парадоксально, но именно эта миссия судьи побуждала Стасова к несправедливости. Одно дело – судья в делах гражданских и уголовных, другое дело – в искусстве. Судья-слуга закона, он карает беззаконие. Но художник– он почти всегда нарушает законы, установленные эстетикой. И создаются-то они, законы эти, после того, как художник сказал свое слово.
Отвергая старые установления, Стасов закреплял новые и только ими руководствовался. Покуда он принимал нас как человек и художник – ибо художественное в нем жило,– он рассуждал правильно и был нам и искусству очень нужен. Но вот мы узнавали его догмы и принимали их. Я тоже принимал. Но что-то заставляло меня страдать, не подчиняться, даже при полном согласии, больше: при обоготворении этих скрижалей.
Вы, вероятно, помните его рассуждения о том, что идеальное произведение искусства может быть создано только группой людей, так как один талант – хорошо, а много – лучше: только фильтр совместного творчества задержит, мол, все несовершенное, незрелое. Он мирился с тем, что каждый из нас сочиняет отдельно и по-своему, допускал это как временную слабость, но надеялся, что в будущем этот дилетантизм уступит место сознательному единению.
А его уверения, что напрасно мы в операх пишем дуэты, трио и квартеты, ибо это грешит против реальности? «В жизни так не бывает,– доказывал он,– чтобы двое или трое, если они не безумные и не пьяные, говорили разом, не подождав, что скажет собеседник». Но хоры он признавал – может быть, потому, что толпа стихийнее, неразумнее, чем отдельные люди?
Он также называл мелодию темой, но шел еще дальше Балакирева: ведь в жизни люди не поют, а разговаривают, стало быть, речитатив ближе к жизни, чем мелодия. Но он умел восхищаться и мелодиями вопреки облюбованным схемам.
Преклоняясь перед Глинкой и боготворя «Руслана», Стасов возмущался первой оперой Глинки, называя ее «верноподданнической». «Никто,– говорил он,– не нанес большего бесчестья народу нашему, как Глинка своей холопской оперой! Жизнь за царя! За мальчишку, которому и на свет-то не стоило родиться! И все же Стасов приходил в восторг от трио из «Жизни за царя» и от хора «Славься». Но – жалел, что в хоре этом, в середине, есть минор…Ах, Стасов!
Я любил и люблю его широту душевную, его деятельную, сильную натуру, но не могу любить эту шумную помпезность, категоричность, поспешность и упрямство суждений. В те годы мы все любили шуметь, провозглашать, похваляться, драться. И с теми, кто враждебен нам, и с теми, кто делает одно дело с нами, и с теми, кто ровно ни в чем не виноват.
Стасов ненавидел итальянскую оперу. Ненавидел? Или считал долгом ненавидеть? Ох, тут слишком перемешано и то и другое. Я, разумеется, был большим католиком, чем сам папа.
Напрасно молодым художникам приписывают дерзость, бунтарство против учителей: как раз в молодости больше всего веришь, создаешь себе кумиров. Это потом на них восстаешь. А в молодые годы, бог ты мой, как я за Балакиревым следовал! И за Стасовым – также. Из-за этого я был странен. Чувствуя на себе некоторую печать избранничества, я в ту пору так ломался, что свежий человек при знакомстве со мной либо удивлялся до испуга, либо спешил это знакомство прекратить… Я обиделся на Тургенева, что он иронически, хотя и не называя меня, отозвался обо мне в одной беседе, а теперь, вспоминая, от души хохочу. Метко, очень метко схвачено это вымученное важничанье и невразумительные сентенции, которые я время от времени произносил. Ну прямо Иван Яковлевич Корейша! [51]
…Зачем я это говорю вам теперь, когда и времени у меня осталось мало, и все отошло и не мешает мне больше? Потому что, прощаясь мысленно с теми, кто был мне дорог, я вижу их лучше, вернее. Раньше они были слишком близко, я замечал одни их достоинства, потом – одни недостатки и страдал от этого. Теперь эти люди встают передо мной во весь их большой рост, по в отдалении; я различаю все пропорции, и мне все видно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пять портретов"
Книги похожие на "Пять портретов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Фаина Оржеховская - Пять портретов"
Отзывы читателей о книге "Пять портретов", комментарии и мнения людей о произведении.