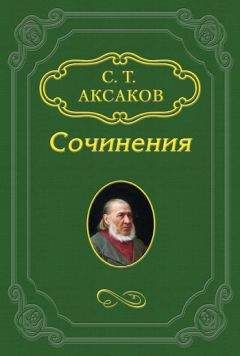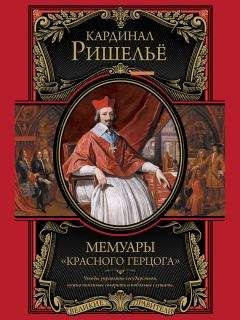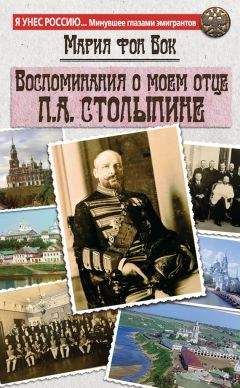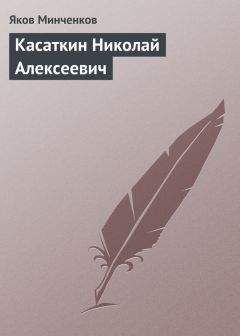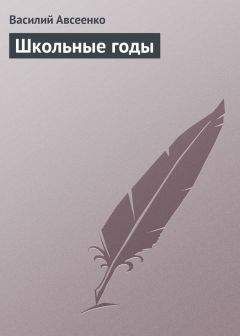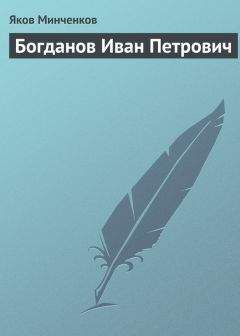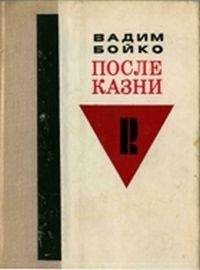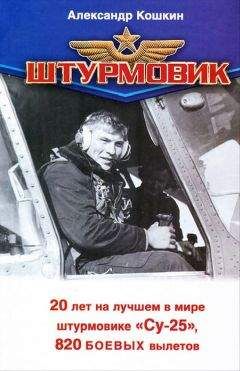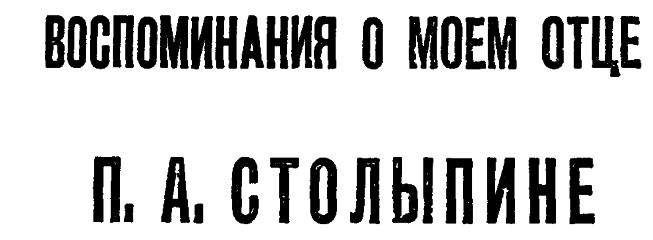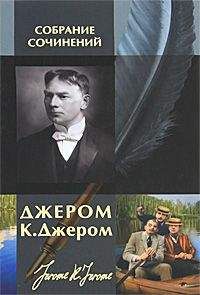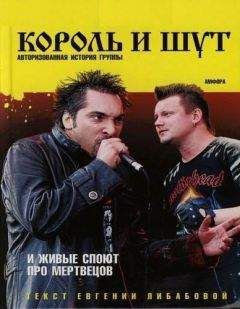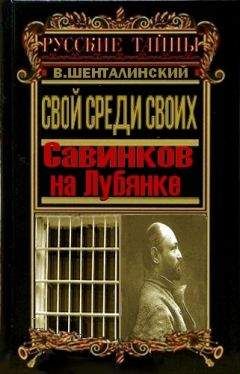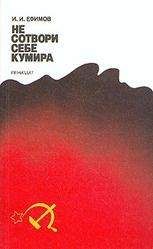Яков Харон - Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Описание и краткое содержание "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии." читать бесплатно онлайн.
Пишу и сам себе не верю. Неужели сбылось? Неужели правда мне оказана честь вывести и представить вам, читатель, этого бретера и гуляку, друга моей юности, дравшегося в Варфоломеевскую ночь на стороне избиваемых гугенотов, еретика и атеиста, осужденного по 58-й с несколькими пунктами, гасконца, потому что им был д'Артаньян, и друга Генриха Наваррца, потому что мы все читали «Королеву Марго», великого и никому не известного зека Гийома дю Вентре?
Сорок лет назад я впервые запомнил его строки. Мне было тогда восемь лет, и он, похожий на другого моего кумира, Сирано де Бержерака, участвовал в наших мальчишеских ристалищах. «Свой фетр снимая грациозно, на землю плащ спускаю я» соседствовало в моем рыцарском лексиконе со строками: «Пустить вам кварту крови квартой шпаги поклялся тот, кто вами оскорблен». Но, в отличие от Сирано, который жил только в моем воображении да в старой серовато-чернильной книжке Ростана, Гийом (это я уже тогда знал) существовал в реальности — в городе Абан за Уральским хребтом. У меня было даже доказательство его присутствия на земле — часы, подаренные мне, часы, на золотом корпусе которых стояли мои инициалы АКС, сплетенные в причудливый вензель.
Нет, нет, читатель, это не бред воспаленного воображения—это наша жизнь, умеющая сплести из нитей чистой, неприкрашенной правды ковер-самолет, или шапку-невидимку, или судьбу Гийома дю Вентре.
Извольте, оставим романтическую часть этой истории, возьмем ее вполне реальные очертания, которые можно подтвердить документами из личного дела, досье, переписки или метрикой, ратентом, справкой о реабилитации.
Жил-был человек по фамилии Харон, хромировал бабки и преподавал во ВГИКе, дирижировал оркестром и валил двуручной пилой кедры, изобретал многоканальную систему звукозаписи и карусельный станок по непрерывной разливке чугуна, присутствовал на премьере «Броненосца „Потемкин"» в Берлине и при убийстве царевича Димитрия в Угличе, бил ломом лунки под взрывчатку и учил сына произносить букву «р» непременно в слове «синхрофазотрон». Был поэтом и педантом, вольнодумцем и ортодоксом, болел всеми болезнями своего времени и имел к ним пожизненный иммунитет. Был похож на птицу и вообще, и в смысле «мы вольные птицы; пора, брат, пора». И умер в благополучной Москве от лагерного туберкулезного удушья, перехватившего вздох легких.
Вам уже стало понятнее, читатель? Значит, мы на верном пути.
В возражение Харону, объективности ради, процитирую еще раз Шаламова, его опубликованные в «Новом мире» фрагменты «О прозе». «Автор «КР» (Колымских рассказов) считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».
Где же среди этих координат сама книга Харона, его лагерь, его опыт, такой, каким он его помнил и написал? Собственно, ради этого и затеян весь разговор о лагерной литературе. И это не праздный вопрос: когда время позволило извлечь хароновскую рукопись вместе со стихами из-под спуда, я показал ее нескольким очень уважаемым мною «редакторам литературных журналов. Но они отказались от такой публикации. Я был удивлен и разочарован их незаинтересованной сдержанностью. И только рассмотрев это их решение в оси названных мною координат, я, кажется, понял: хотя рукопись «Злых песен» несомненно принадлежала к общечеловеческому, а не ведомственному руслу лагерной литературы, она имела слишком необычный, нерастворимый цвет. Рядом с теми же «Колымскими рассказами» Шаламова лагерь, через призму хароновской памяти, может показаться забавным, нестрашным и уж по меньшей мере кощунственно легкомысленным.
Если не знать, что любимым литературным героем Харона был Иосиф Швейк, если не прислушаться к его предупреждению, что сходство свое с бравым героем Гашека он объяснял «…сходством если не самих наших приключений, то уж характера нашего восприятия таковых… Отличительная черта подобного восприятия — непреоборимая потребность обобщать, стремление уйти от угрозы уникальности, избежать исключительности, беспрецедентности, постигшей тебя, пусть даже редкостной, неприятности или хоть смертельной опасности…» [5] Или уже в тексте самой книги не обратить внимания на такое признание: «От трагического до смешного, как известно,— один шаг, и я, кажется, так устроен, что делаю этот шаг с особой радостью, хотя бы самому мне и пришлось быть объектом осмеяния — какая разница?!» — то можно и вправду подумать, что либо лагерная ноша, доставшаяся Харону, оказалась легче прочих, либо наружная легкомысленность его манеры изложения свидетельствует о недостаточной серьезности самого автора.
Мы вообще если уж беремся вскрывать темные стороны жизни, то непременно с помощью тяжелых предметов вроде булыжника или метательных орудий типа гаубицы; вы не замечали, как тяжелеют басни Лафонтена в крыловских переложениях? «Печаль моя светла» — на это во всей русской литературе отважился только Пушкин. Вот и уважаемым редакторам не хватило, как мне кажется, этой, всю, целиком, жизнь принимающей мудрости. И еще — отчасти — чувства юмора. Да и стихи дю Вентре им, видимо, хотелось бы видеть вооруженными не только французской легкомысленностью, но и серьезными социальными аллюзиями… впрочем, о стихах чуть позже. А пока, чтобы вы могли оценить всю бестрепетность хароновского юмора, могу добавить, что официальное заявление свое о приеме в Союз композиторов Харон назвал «Челобитная для пишущей машинки соло», назвать иначе не захотел и в Союз композиторов принят, разумеется, не был.
Яков Евгеньевич Харон и Юрий Николаевич Вейнерт — настоящие российские интеллигенты. Нет этому слову никакого разумного объяснения в словарях, где интеллигентность пожизненно связана с умственным трудом, а тем самым (утверждается или подразумевается) — с высшим образованием и им же и стреножена по рукам и ногам. Коль скоро ни у того, ни у другого этого вожделенного законченного высшего не было и в интеллигентности им словарь отказывает, я вынужден сделать попытку предложить здесь свою, не словарную формулировку этого понятия, ну, скажем, как рабочую гипотезу.
Интеллигент — это человек, чей гуманизм (т. е. уважение к инакомыслию, инакочувствию и инакожитию) шире, чем его собственные убеждения.
Вот это качество, как мне представляется, и составляет первооснову мировоззрения авторов дю Вентре и «прозаического комментария» к «Злым песням». Отсюда и могущее показаться примиренческим их отношение к уркам, к лагерному начальству, к придуркам и прочим радостям лагерного существования.
И еще одно. Когда-то глубоко мною почитаемый поэт Борис Слуцкий, говоря о первых ласточках лагерной литературы, сказал: «Это пока только литература барабанной шкуры. Настанет день — появится и литература барабанных палочек». Мне очень нравилось это изречение, оно казалось мне пророческим. Но вот прошли годы, а литература тех, кто бил или хоть кем били, не появляется, множится лишь все та же часть, написанная людьми, на чьих шкурах выбивали барабанную дробь. И я начинаю сомневаться в пророчестве Слуцкого. Все-таки если мир или какая-то его часть разделены лагерной колючей проволокой или тюремной решеткой, то, видимо, талант обречен быть среди попираемых, среди поднадзорных, среди битых. И нет ему места среди тех, кто вольно или невольно становится попирающим, охраняющим, бьющим. Заключенные — талантливее тюремщиков, и в этом трагедия и тех и других и всего времени, которое попустительствовало такому разделению людей.
***
В 1932 году Харон возвратился в Москву. Перефразируя Маяковского, можно сказать: идти или не идти — такого вопроса для него не было. Он пришел на Потылиху, куда в те времена еще не доходил трамвай и в непогоду надо было месить пешком грязь от самого моста Окружной дороги. В первой шумовой бригаде будущего «Мосфильма» он встретил двух приятелей, о которых с любовью вспоминает на страницах книги: Женьку — Евгения Ивановича Кашкевича — впоследствии, как и сам Харон, одного из лучших звукооператоров «Мосфильма» и Боба — Бориса Савельевича Ласкина — будущего известного юмориста, сценариста «Карнавальной ночи». Кстати, упомянутая Хароном «сестренка системы Женя» — двоюродная сестра Бориса — моя мама. Теперь читатель, надеюсь, простит мне изобилие лирических отступлений: я ведь был знаком с Хароном задолго до собственного рождения. И потому да простится мне вольное рассуждение об этом странном поколении, поколении моих родителей.
Причем особенно привлекает меня одно его уникальное, ныне почти вытравленное качество, которому мы с вами обязаны многим, в том числе и появлением на свет Гийома дю Вентре. Харон в одном из писем так определил интересующее меня свойство: «…удивляться хоть какой эрудированности не полагалось:
это свидетельствовало бы о собственном невежестве, а в те годы невежество считалось еще предосудительным». Жажда знать и умение учиться — вот главные приметы тех, кто родился между 10 и 17 годами двадцатого века. Я кинорежиссер, а не обществовед и потому не берусь судить, чтб породило эту черту: то ли детство, совпавшее с величайшими социальными катаклизмами, то ли еще не выветрившийся дух академического знания, в конце концов этими катаклизмами вытравленный,— во всяком случае, большинство людей этого поколения обладали совершенно недоступным мне спектром человеческих знаний. И ведь никак не скажешь, что жизнь их к этому подталкивала наличием каких-то особо благоприятных условий — скорее наоборот. Харон, с его тремя курсами Берлинской консерватории и немецкой гимназией, где он влюбился в генетику,— скорее исключение, чем правило. Но ведь не там же его учили устройству двигателя внутреннего сгорания или технологии литейного дела? А Вейнерт? Вейнерт, который первый раз отправился в ссылку сразу после окончания девятилетки, кончил в промежутках между отсидками ФЗУ и один курс Ленинградского института железнодорожного транспорта? Его университеты, правда, более разнообразны: «В это время я была у него в Малой Вишере,— вспоминает его мать, Ядвига Адольфовна,— маленький городишко, скорее село, деревенские домики, грязь, не мощеные дороги, и на каждом шагу то научный сотрудник Эрмитажа, то известный историк, то профессор университета — «бывшие». Или о свидании в Мариинске: «…Юра, самый младший из группы ссыльных, был тепло встречен. Сначала все были на общих работах, тащили из замерзшей земли турнепс и свеклу, потом были на строительных работах. В группе строителей счастливо сочетались: архитектор, музыкант и художник-живописец. Жадный на всякие знания, особенно по разным видам искусств, Юра оказался благодарным учеником. Глотал, пожирая, все, о чем говорилось, вырабатывал свою точку зрения, свой собственный вкус…»
Но ведь не уникумы они двое, хотя такого диапазона знаний и умений и в этом поколении достигали немногие. Ведь и мое поколение уважение к чужому умению и даже восторг перед ним сохранило, вспомним хоть Беллу Ахмадулину: «Чужое ремесло мной помыкает». Но восторг перед чужим мастерством не был связан с потребностью освоить его. А вот Харон в книге пишет: «Всю жизнь, сколько я себя помню, это казалось мне величайшим счастьем — уметь что-то делать. Не как-нибудь, не тяп-ляп, а по-настоящему, красиво, легко, свободно, виртуозно. Разницы в профессиях для меня в этом отношении просто не существовало. Красивая работа столяра или пианиста, токаря или живописца, слесаря-лекальщика или хирурга — все мне казалось равно прекрасным и вызывало горячую зависть. «Вот бы мне так» — пожалуй, наиболее постоянный лейтмотив моих заветных дум и мечтаний в течение долгих лет, чуть ли не всей жизни». В начале своего предисловия я уже говорил о некоторых умениях звукооператора Харона: скажем, хромировать бабки или заделывать лунки под взрывчатку; из книги вы узнаете о многих других: делать противостолбнячные уколы и играть Моцарта на рояле сухо, «без чювства»,— как на клавесине, дирижировать началом 8-й симфонии Брукнера и учить школьников физике и математике; от себя могу добавить и те, о которых в книге не нашлось места упомянуть: сочинять коктейли, печатать на машинке, писать зубодробительные статьи о природе кинодраматургии и серьезные исследования о природе звука. И это еще далеко не всё. Наверное, только на крутом переломе эпох рождаются поколения, которым так щедро отпущен талант всему научиться, суметь всё, что потребует от них жизнь. Но уж зато и требования были под стать эпохе: война, лагеря, великая коллективизация, великая индустриализация. Их эпоха не давала им, да и сама не знала, передышки — может быть, поэтому меньше всего они были философами. Если они. чувствовали разрыв между перенасыщенностью времени и неустроенностью души — они писали стихи.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Книги похожие на "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Яков Харон - Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии."
Отзывы читателей о книге "Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.", комментарии и мнения людей о произведении.