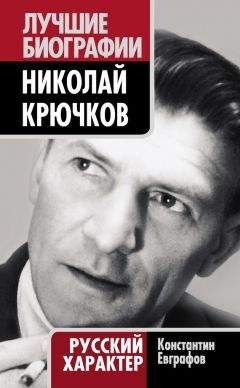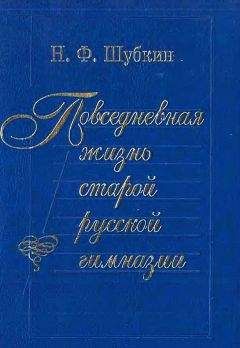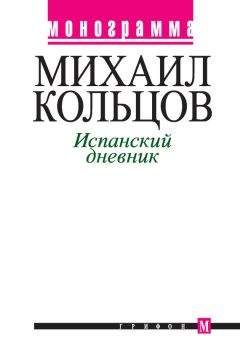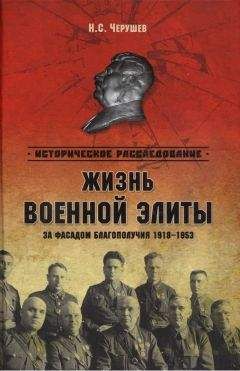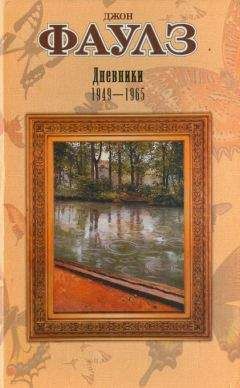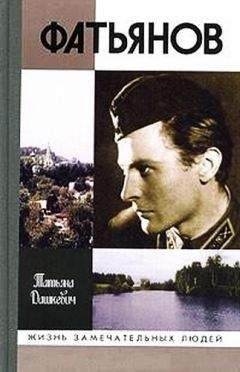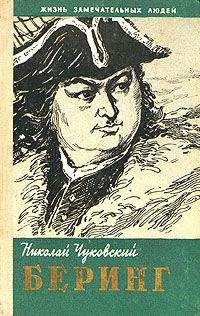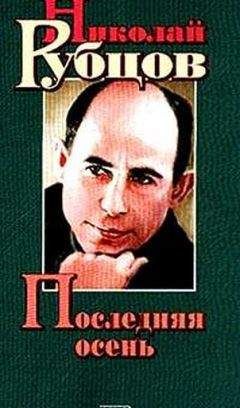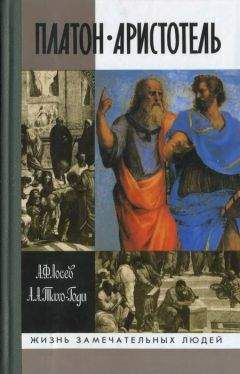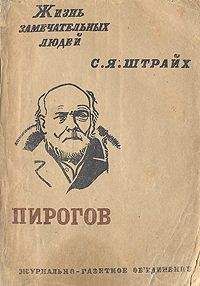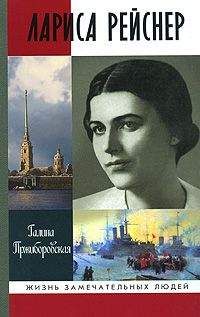Николай Скатов - Кольцов
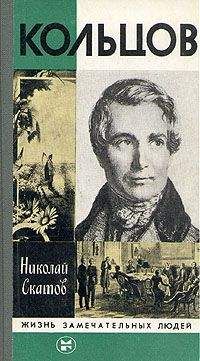
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Кольцов"
Описание и краткое содержание "Кольцов" читать бесплатно онлайн.
Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.
Органичный философский универсализм Кольцова не предполагал узкого философствования. «Купил, – сообщает он Белинскому в мае 1839 года, – „Историю философских систем“ Галича; мне их наши бурсари шибко расхвалили; а я прочел первую часть: вовсе ничего не понял: разве философия другое дело? Может быть. Итак, будем читать до конца».
Позднее Кольцов напишет о Галиче резкие слова своему воронежскому другу помещику А.Н. Черткову: «Насилу дал бог храбрость одолеть этого гадкого идиота Галича. Следовало бы его и его творения на костер – да и сжечь. Извините, что долго продержал. Начнешь читать – сон. Не прочтя отослать – стыдно не одолеть дряни». Это написано уже в 1841 году, через несколько лет, человеком, явно за эти годы немало читавшим. И наверное, большая философская мысль не давала Кольцову принять быстро устаревавшего А.И. Галича Такие явно довольно обычные философские чтения Кольцова подтверждаются и тем, что речь во втором письме идет совсем не об «Истории философских систем» 1819 года Галича, как обычно пишут комментаторы Кольцова (ведь эта книга была в библиотеке самого поэта), а о каком-то другом его труде, всего скорее об «Опыте науки изящного» (1825). Кстати сказать, о кольцовских занятиях философией, видимо, было достаточно широко известно. В 1841 году Кольцов писал Белинскому из Москвы: «Жуковский в Москве, я у него был, говорил мне, что он слышал, что я немного знаю философию, жалеет об этом; советует бросить все к черту. „Философия – жизнь, а немцы – дураки и проч.“.
Поддерживая и после смерти Николая Станкевича дружеские отношения с его братьями, Кольцов сообщил Белинскому об Александре Владимировиче: «Был у меня третий Станкевич. Он как-то странно переменился, зарылся в науку, в формальность, математически сурьезно. Оно хорошо с молодых лет поучиться хорошенько, а все-таки странно видеть человека ученого, сухого, без огня в душе и без фантазий жизни».
Сам поэт писал брату покойного поэта Дмитрия Веневитинова Алексею: «…за всеми недосугами читаю, пишу, и пусть впереди будет хуже, я все-таки буду идти тем путем, которым давно иду, куда бы ни дошел, все равно, в понимании явлений жизни – лучшая жизнь человека».
Речь идет именно не об академическом восприятии философии, хотя, как пишет Кольцов, «…рад каждую статью философскую, как и статью о Шекспире, читать и уважать».
Само упоминание Шекспира здесь вряд ли случайно. С таким подходом к жизни, к охвату глобальных проблем бытия, к универсальному освоению его и в искусстве нужно было пытаться найти нечто всепокрывающее, всеохватное, абсолютное. Таким явлением стал для Кольцова в конце 30-х годов Шекспир.
«Я, – пишет он Белинскому, – читаю теперь Вальтера Скотта. „Пуритане“ прочел с удовольствием. „Роб-Рой“ другой день читаю первую часть, а уж дочту. Смотри, шотландец, не сконфузься (вы не любите этого слова): вот авось раскусим мы тюбя; что дальше, а твой старинный большой брат британец дивно больно хорош. Когда будете писать, уведомьте о „Ромео и Юлии“: если переведен, нарочно приеду в Москву читать его».
Дело в том, что переводом «Ромео и Джульетты» занимался Катков, и близкий ему Кольцов мог получить перевод сразу из первых рук и с соответствующими комментариями.
Что до соотнесения Шекспира и Вальтера Скотта, то за шутливыми, ироническими словами Кольцова, звучащими и некоторым вызовом, всего скорее стоит продолжение какого-то спора с Белинским. Критик от самых первых своих писаний еще начала тридцатых годов всегда восторженно оценивал Вальтера Скотта – «великого человека», «блистательного гения» и часто называл его рядом с Шекспиром.
Освоение Шекспира – переводы, споры, театральные постановки первостепенного значения – характерная примета России тридцатых годов. Случилось так, что с впечатлениями от Шекспира оказались связаны даже первые литературно-бытовые хлопоты и отношения Кольцова, как только он приехал в Петербург в феврале 1838 года, – из Москвы от Белинского и с его поручением. Само поручение и его достаточно деликатный характер, связанный с переговорами о переезде критика в Петербург, говорят уже об известной близости с Белинским. Кольцов вел переговоры о возможности помещения статьи Белинского о Гамлете в негласно редактировавшихся теперь в Петербурге Полевым «Сыне отечества» или «Северной пчеле».
Статья эта – «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» – одна из главных работ критика в конце 30-х годов. В оценке двух русских Гамлетов – В.А. Каратыгина и П.С. Мочалова – Кольцов сразу и безоговорочно встал на сторону Белинского, а может быть, и укреплял критика в его суждениях, во всяком случае, оценки Кольцова высказываются совершенно самостоятельно: «Я был на „Гамлете“ в Питере, и вот мое мнение; Каратыгин человек с большим талантом, прекрасно образован, чудесно дерется на рапирах, великан собою, и этот талант, какой он имеет, весь ушел он у него в искусство, и где роль легка, там он превосходен, а где нужно чувство, там его у Каратыгина нету – извините.
Например, сцена после театра, монолог «быть или не быть», разговор с матерью, разговор с Офелией: «удались от людей, иди в монастырь», – здесь с Мочаловым и сравнить нечего: Мочалов превосходен, а Каратыгин весьма посредственный. У Мочалова немного минут, но чудесных; Каратыгина с начала до конца роль проникнута искусством».
Именно одержимость Шекспиром и ощущение Шекспира подвигало Кольцова не только на постоянные чтения, но и на заявления, часто смелые и категоричные, заставляло внимательно следить за усилиями переводчиков и жадно внимать спорам и суждениям на эту тему.
Вообще характерно, что переводческое освоение Шекспира у нас в XIX веке, особенно в его первой половине, не носило узкофилологического характера, было отмечено широким общекультурным пониманием и проникновением. Недаром уже в наше время такой художник-переводчик Шекспира, как Борис Пастернак, писал: «Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим».
Именно «высота понимания» позволила Кольцову резко оспаривать статью даже такого высоко ценившегося Белинским знатока и переводчика Шекспира, как А.И. Кронеберг, которая была направлена против перевода «Гамлета», осуществленного Н.А. Полевым. А уж цену Полевому, и его писаниям, и его позиции Кольцов в конце 30-х годов хорошо знал: «У вас в „Литературной газете“, – пишет он Белинскому, – напечатана статья г-на Кронеберга о поправках „Гамлета“: очень вещь невыгодная для Кронеберга и довольно дурно его рекомендует. Можно замечать и поправлять ошибки, как ему угодно, можно даже перевести „Гамлета“, лучше Полевого и легче Вронченки; но так бессовестно бранить старше себя и, верно, лучше себя, и за такой труд, за который Николай Алексеевич Полевой заслуживает в настоящее время полную благодарность! Без его перевода не было бы на сцене такого „Гамлета“ и в нем такого Мочалова, какие у нас теперь. Надо бы Кронебергу сначала его перевести, потом напечатать, а потом и ругать других – и дело бы тогда было похвальное. Бранить Полевого за „Уголино“, за драмы, водевили и переделку их с французского – другое дело; здесь всякая брань у места».
Одна из последних дум Кольцова, опубликованная уже после его смерти, содержала такие строки:
…Целая природа —
В душе человека.
Проникнуты чувством,
Согреты любовью,
Из нее все силы
В образах выходят…
Властелин-художник
Создает картину —
Великую драму,
Историю царства.
В них дух вечной жизни,
Сам себя сознавший
В видах бесконечных
Себя проявляет.
«Она, – пишет Кольцов об этой думе Белинскому, – не вся вышла; я хотел сказать иначе, во не сказалось. Вы знаете, что этот предмет не по моему мозгу, я его только чуть понимаю, но не совсем переварил; да и переварю ли? – кто знает? Впрочем, это название не то, которое бы я ей дал».
Какое же название Кольцов ей дал бы? «Я бы назвал ее „Бог“. Но ведь тогда она никуда не может показаться». То есть цензура не пропустит.
А какое название Кольцов ей дал? – «Шекспир».
Конечно, Шекспир не бог, но уж если искать подмену, то, по Кольцову, эта, очевидно, самая подходящая и приемлемая. Уже после смерти Кольцова Белинский напечатал эту думу под названием «Поэт». Но мы, во всяком случае, знаем, какого поэта Кольцов мог иметь в виду. «…Однажды, – вспоминает А.М. Юдин, – читая при мне некоторые сцены из шекспировской драмы „Ромео и Джульетта“, переведенной Катковым, особенно прочел он с необыкновенным воодушевлением сцену, представляющую свидание Ромео и Джульетты ночью, в саду Капулетти. Окончив чтение, он вскричал: „Вот был истинный поэт! А мы что?“
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Кольцов"
Книги похожие на "Кольцов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Скатов - Кольцов"
Отзывы читателей о книге "Кольцов", комментарии и мнения людей о произведении.