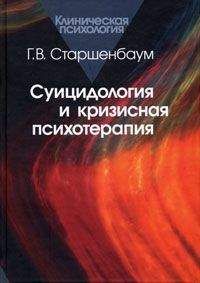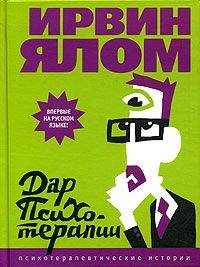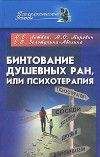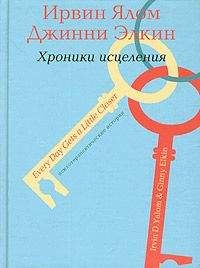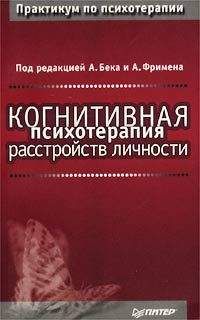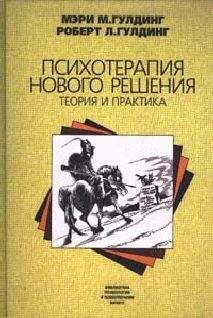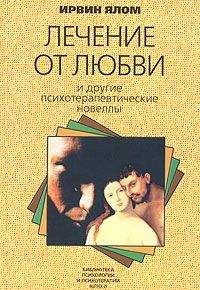Ирвин Ялом - Экзистенциальная психотерапия
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Экзистенциальная психотерапия"
Описание и краткое содержание "Экзистенциальная психотерапия" читать бесплатно онлайн.
– Как ты думаешь, он хотел бы выйти оттуда?
– Он хотел бы выйти, но гроб забит гвоздями.
– Если бы он не был в гробу, он мог бы вернуться?
– Он не смог бы откинуть весь этот песок.
Х.Г. (8 лет 5 мес.): Люди думают, что мертвые могут чувствовать
– А они не могут?
– Нет, они не могут чувствовать, это как сон. Когда я сплю, я ничего не чувствую, кроме того, что во сне.
– Мертвые видят сны?
– Я думаю, что нет. Мертвые не видят никаких снов. Иногда что-то промелькнет, но это меньше даже половины сна.
Л.Б. (5 лет 6 мес.): Его глаза были закрыты.
– Почему?
Потому что он был мертв.
– Какая разница между сном и смертью?
– Приносят гроб и кладут его туда. Когда человек мертв, они вот так складывают ему руки.
– Что происходит с ним в гробу?
– Его едят черви. Они прогрызают себе путь в гроб.
– Почему он позволяет им есть его?
– Он уже не может встать, потому что над ним песок. Он не может выбраться из гроба.
– Если бы над ним не было песка, он мог бы выбраться?
– Наверняка, если он был не очень сильно поранен. Он мог бы просунуть руку сквозь песок и копать. Это показывает, что он еще хочет жить.
Т.Д. (6 лет 9 мес.): Крестный моей сестры умер, и я взял его за руку. Его рука была совсем холодная. Она была зеленая и синяя. Его лицо было все сморщено. Он не может двигаться. Он не может сжать руки в кулаки, потому что он мертв. И он не может дышать
– А его лицо?
– Оно в гусиной коже, потому что ему холодно. Ему холодно, потому что он мертв и весь холодный.
– Он чувствует холод или просто у него кожа была такая?
– Если он мертв, он все равно чувствует. Если он мертв, он совсем чуть-чуть чувствует. Когда он совсем умрет, он уже ничего не почувствует.
Г.П. (6 лет): Он раскинул руки и лег. Его руки невозможно прижать. Он не может говорить. Не может двигаться. Не может видеть. Не может открыть глаза. Он лежит четыре дня.
– Почему четыре дня?
– Потому что ангелы еще не знают, где он. Ангелы выкапывают его и забирают с собой. Они дают ему крылья и улетают с ним.
Эти выдержки чрезвычайно красноречивы. Они поражают внутренними противоречиями, смещениями пластов знания, очевидными даже в этих коротких отрывках. Мертвые чувствуют, но они не чувствуют. Мертвые растут, но каким-то образом остаются того же возраста и помещаются в гроб того же размера. Ребенок хоронит свою собаку, но оставляет пищу на могиле, потому что пес может быть чуть-чуть голоден. Возникает впечатление, что для ребенка смерть имеет несколько стадии. Умерший может чувствовать «совсем чуть-чуть» (или иметь проблески сновидений), но тот, кто «совсем умрет… уже ничего не почувствует». (Кстати, Наги использовала эти цитаты в качестве доказательства того, что дети рассматривают смерть как временное явление или полностью отрицают ее, отождествляя с уходом или сном. Здесь вновь трудно не заподозрить предубежденность наблюдателя: на мои взгляд, эти фрагменты указывают на значительную информированность детей. Быть съеденным червями, остаться навсегда под землей, «совсем умереть» и «больше ничего не почувствовать», – это мало походит на что-либо временное или незавершенное.)
Хорошо известно, что дети отождествляют сон и смерть. Для ребенка состояние сна – самое близкое к бессознательному в его опыте и единственный ключ к представлению о том, что такое смерть. (В греческой мифологии Танатос, смерть, и Гипнос, сон – братья-близнецы.) Ассоциация между сном и смертью значима в расстройствах сна, и многие клиницисты высказывали мысль, что страх смерти важный фактор бессонницы как у взрослых, так и у детей. Многие дети со склонностью к страхам воспринимают сон как источник опасности. Вспомним детскую молитву.
Мои Боже, сладко я буду спать,
Прошу Тебя душу мою охранять,
А если умру я ночной порой,
Возьми ее. Боженька милый, с собой.
Из собранных Наги детских высказываний также становится совершенно ясно, что дети, при всей неполноте их знания о смерти, рассматривают ее как нечто ужасное и пугающее. Заточение в заколоченном гробу, оплакивание себя под толщей земли, лежание в могиле в течение сотни лет и затем превращение в кусок дерева, ледяной холод, кожа, принимающая зеленый и синий цвет, неспособность дышать все это действительно жутко.*
* Эти ранние представления о смерти удивительным образом удерживаются в бессознательном. Эллиот Жак, например, описывает следующий сон пациентки средних лет, страдающей клаустрофобией: «Она лежала в гробу. Она была разрезана на маленькие ломтики и была мертва. Но через каждый ломтик проходила тонкая, как паутина, нервная нить, которая вела к мозгу. Поэтому она могла все чувствовать. Она знала, что мертва. Она не могла двигаться, не могла издать ни звука. Она могла только лежать в клаустрофобической тьме и безмолвии гроба».
Эти представления детей о смерти действуют отрезвляюще, особенно на родителей и педагогов, которые предпочитали бы игнорировать неприятную сторону вопроса. «То, чего они не знают, не может повредить им», – таков аргумент, стоящий за официально санкционированным молчанием. Однако если дети чего-то не знают, они это придумывают, и, как мы видели в приведенных выше примерах, их домыслы еще страшнее, чем правда. Ниже я скажу еще кое-что относительно просвещения на тему смерти, но пока ограничимся очевидным выводом, что дети действительно представляют смерть как нечто ужасное и что они вынуждены искать способы утешить себя.
Отрицание: два основных оплота против смерти. У ребенка есть две базисные защиты против ужаса смерти, восходящие к самому началу жизни, глубокие убеждения в своей индивидуальной неуязвимости и в существовании уникально личностного конечного спасителя. Оба эти убеждения подкрепляются открытыми родительскими текстами и религиозной традицией, несущими представления о посмертной жизни, о всемогущем защитнике-Боге, об эффективности личной молитвы. Но они также укоренены и в раннем опыте младенца.
Исключительность. Каждый из нас питает с самого детства и сохраняет во взрослом состоянии иррациональную убежденность в своей исключительности. Ограничения, старение, смерть все это может относиться к ним, но не к нам, не ко мне. На глубинном уровне мы убеждены в своих личных неуязвимости и бессмертии. Истоки этой первобытной веры (пра-защита, как называет ее Жюль Массерман) лежат в самом начале нашей жизни. Для каждого из нас это время предельного эгоцентризма. Я – вселенная, нет никаких границ между мною и другими объектами и существами. Каждая моя прихоть удовлетворяется без малейшего усилия с моей стороны: моя мысль немедленно претворяется в реальность. Я преисполняюсь ощущением своей исключительности и использую эту находящуюся в моем распоряжении веру как щит против тревоги смерти.
Конечный спаситель. Рука об руку с этой антропоцентрической иллюзией (я не использую данное слово в уничижительном смысле, речь идет о широко распространенной – возможно, универсальной – иллюзии) существует вера в конечного спасителя. Она также происходит из ранней жизни, из времени теневых фигур, родителей, этих чудесных придатков к ребенку, являющихся не только мощной движущей силой, но и вечными слугами. Полная заботы родительская бдительность в период младенчества и детства подкрепляет веру во внешнего прислужника. Вновь и вновь ребенок заходит слишком далеко в своих предприятиях, запутывается в жестоких тенетах реальности и находит спасение под громадными материнскими крыльями, окутывающими живым телесным теплом.
Убежденность в личной исключительности и в конечном спасителе оказывает развивающемуся ребенку хорошую услугу: они являются исходным фундаментом защитной структуры, воздвигаемой индивидом против ужаса смерти. На них надстраиваются вторичные защиты, которые у взрослых пациентов нередко маскируют как первичные празащиты, так и природу первичной тревоги. Эти две базисные защиты коренятся глубоко (о чем свидетельствует их живучесть, их присутствие в виде мифов о бессмертии и веры в личностного бога практически в каждой значительной религиозной системе;* они сохраняются и у взрослых, оказывая мощное влияние – о чем будет идти речь в следующей главе – на структуру характера и формирование симптомов.
* Важно подчеркнуть, что психодинамический смысл религии не отменяет истину, лежащую в основе религиозного мироощущения Говоря словами Виктора Франкла: «стремясь удовлетворить преждевременное сексуальное любопытство, мы придумываем, что младенцев приносят аисты. Но из этого не следует, что аистов не существует!»
Отрицание: вера в то, что дети не умирают. Распространенным утешением, к которому рано начинают прибегать дети, является вера в то, что детям смерть не грозит. Молодые не умирают; умирают старые, а старость очень, очень далеко. Вот некоторые примеры:
С.: (5 лет 2 мес.): Где твоя мама?
Мать: На небе. Она умерла некоторое время назад. Ей было около 70 лет.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Экзистенциальная психотерапия"
Книги похожие на "Экзистенциальная психотерапия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирвин Ялом - Экзистенциальная психотерапия"
Отзывы читателей о книге "Экзистенциальная психотерапия", комментарии и мнения людей о произведении.