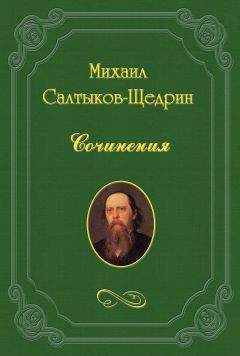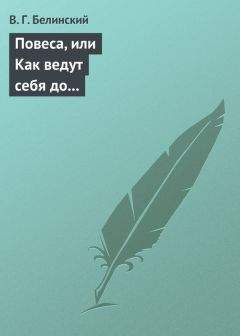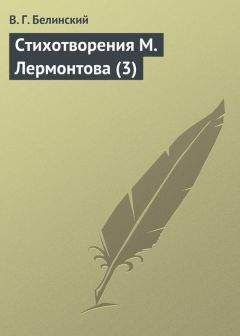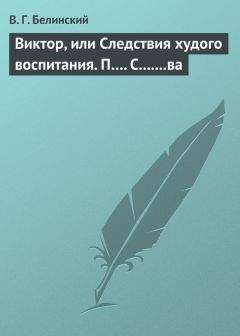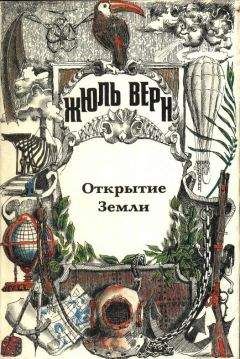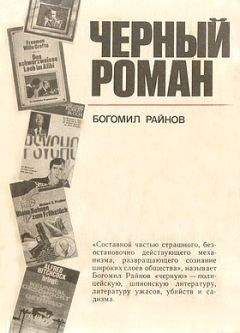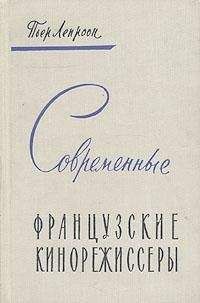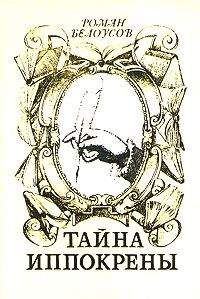Анатолий Бритиков - Русский советский научно-фантастический роман
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русский советский научно-фантастический роман"
Описание и краткое содержание "Русский советский научно-фантастический роман" читать бесплатно онлайн.
Автор хотел бы надеяться, что его работа поможет литературоведам, преподавателям, библиотекарям и всем, кто интересуется научной фантастикой, ориентироваться в этом популярном и малоизученном потоке художественной литературы. Дополнительным справочником послужит библиографическое приложение.
Арата Горбатый, мститель божьей милостью, храбр, умен и живуч, и ему, быть может, удастся сравнять с землей баронские замки. Волна крестьянского бунта, возможно, забросит его на трон, и он будет править добро и мудро. По доброте раздаст земли сподвижникам. А на что земля без крепостных? «И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов» (317).
Герои Стругацких вооружены сказочной техникой, они синтезируют золото на нужды повстанцев из опилок — и это почти божественное могущество упирается в то, что народ Арканара все-таки сам должен сделать свою историю. Они — только родовспомогатели, они могут содействовать прогрессивному и препятствовать реакции, но не должны лишать народ самостоятельного исторического творчества, ибо только оно и пересоздает человека. Они могут — и все-таки не могут завалить Арканар изобилием, ибо дармовой хлеб развратит, и история будет отброшена вспять. Они не должны широко применять воздействие на психику, ибо тогда это будут искусственные, лабораторные люди. А человечество — не подопытное стадо. Люди сами вольны выбирать себе все на свете и особенно — душу. Трудно быть богом.
Беседа разведчика-историка Антона-Руматы с ученым врачом Будахом, в которой земной «бог» отвергает одно за другим предложения: всех накормить, сделать всех добрыми и т. д., — драматичнейшая сцена бессилия силы. Ибо Будах, перебрав все, о чем он попросил бы бога, если б тот был, и на все получив разумное «нет», сказал:
" — Тогда, господи… оставь нас и дай нам идти своей дорогой.
« — Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Румата. — Я не могу этого сделать» (311). (Не этот ли эпизод имел в виду Немцов, утверждая, что Стругацкие против помощи отсталым народам? [375]) Трудно и, вероятно, опасно вмешиваться, но и не вмещаться нельзя. Коммунары будущего были бы недостойны предков, если бы не отважились провести корабль чужой истории через гибельные рифы и мели. Но они были бы отъявленными авантюристами, если бы обещали (каким-нибудь «большим скачком» перенести отсталую цивилизацию в обетованный мир коммунизма. Для Немцова здесь нет проблем. Но марксисты знают, что история не уравнение с одним неизвестным. Ее диалектика редко позволяет сказать «да» или «нет». Наука пролетарской революции учит с величайшей ответственностью определять момент вооруженной борьбы (когда народ уже не может жить, а угнетатели уже не могут управлять (по-старому). В. И. Ленин учит использовать периоды спада не только для подготовки новой революционной волны, но и настойчиво искать в этот период мирных путей социального освобождения. Повесть Стругацких с большим драматизмом предостерегает от псевдореволюционной игры с историей. Писателей упрекали за якобы неисторичное совмещение фашизма со средневековым варварством; в средневековье было, мол, и позитивное историческое содержание. [376] Всем известно, что феодализм несводим к угнетению, самовластью и темноте, а варварство — не единственная черта фашизма как военной диктатуры империализма. Но разве всем известная характеристика фашизма как средневекового варварства — пустая метафора? И разве писатели не имели морального права реализовать ее в фантастическом сюжете? Ведь Стругацкие подчеркнули общечеловеческую мерзость всякого самовластья в любые исторические времена, а не строили теорию какого-то средневекового фашизма. Фантасты оказались более чутки к современной истории, чем некоторые ученые их критики: повесть «Трудно быть богом» вышла в свет до того, как вакханалия хунвейбинов, драпируясь в красное знамя, напомнила коричневое прошлое Германии.
Тем не менее повесть исторична и не метафорически, Средневековый эквивалент фашизма, показанный Стругацкими, как диктатура военно-религиозного ордена, — явление типично феодальное. Разве нет более глубокой, не только нравственной аналогии между повергнувшей в ужас Европу инквизицией и застенками Гиммлера (кстати сказать, сознательно скопированными со всех предшествующих машин подавления)? В придуманных Стругацкими средневековых «серых ротах штурмовиков» столько же от гитлеризма, сколько и от обывателя всех времен и народов. Сила повести — в нравственном совмещении страшных для человека явлений далеких эпох. Это не костюмирование прошлого, а напоминание о том, что тотальное самовластье, как его ни называй, во все времена кралось по спинам жующего обывателя, столь же трусливого, сколь и кровожадного, — самой хищной вещи на свете. Это хотели сказать и хорошо сказали Стругацкие, нарушая исторический буквализм.
Во все времена было нечто близкое фашизму, и во все времена было нечто родственное коммунизму. Идея духовной преемственности эпох лежит и в основе исторической фантастики Ефремова. Только у Стругацких она интуитивней — не осознана с той логикой, что придает ефремовскому оптимизму научную убедительность. Разведчики-историки ищут во мраке невежества тех, через кого может быть решена задача исторического родовспоможения. Непреложна очередность социально-исторических формаций. И только неустанная активность разума, тлеющего в этой несчастной и невежественной толпе, может подтолкнуть неспешную поступь истории. Люди из будущего раздувают искру товарищества и братства, справедливости и чистоты, знания и культуры. И это не от рассудка, но от сердца: они верят в человека.
Конечно, «Трудно быть богом» — гипербола. Но авторы не чернят народ феодальной эпохи. Глядя на разнузданную скотскую толпу, Антон-Румата мысленно обращался к товарищам: «Не воротите нос; ваши собственные предки были не лучше…» (298). Беда разведчиков-историков не в том, что они не увидят плодов своих усилий, а в том, что не могут снять с себя надетую для маскировки шкуру подонков — «донов». «И все вокруг помогает подонку, а коммунар — один-одинешенек» (171). Оттого Антон и не отправил на Землю, подальше от бунтов и заговоров, Киру, полудикарку, родившуюся на тысячу лет раньше, чем приобретет величайшую ценность ее бескорыстие и доброта, чистота и верность.
Полубог полюбил полудикарку — в ней алмазной гранью сверкнула та человечность, которая ему симпатична и в непокорном бражнике бароне Пампе, готовом отдать жизнь за товарища, и в преданном науке гениальном врачевателе Будахе, и в неукротимом Арате Горбатом.
Арбалетная стрела пробила Кире горло, потому что дон Рэба не посмел поднять руку на благородного дона Румату. Главарь клерикальной диктатуры ненавидел и боялся человека, чудесным образом похитившего бунтовщика Арату из тюрьмы (на вертолете), пустившего в оборот немыслимое количество золота, зачем-то выкупая из темниц ученых и поэтов («Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты!», 276). «Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога» (227 — 228). И дон Рэба велел застрелить Киру.
Тогда Антон-Румата подобрал свои мечи, спустился в прихожую и стал ждать, когда под ударами убийц упадет дверь.
На этом, собственно, повесть кончается. Эпиграфом из Хемингуэя авторы предупреждали своих героев: «Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах». Антон был не первым, для кого быть всеблагим богом оказалось свыше сил.
Но писателям показалась недостаточной эта казнь. Им показалось, что читатели не до конца поймут их мысль. И они опоясали историю Антона-Руматы прологом и эпилогом, где речь о том, как Антон проложил дорогу из трупов ко дворцу дона Рэбы и как товарищи вернули его на Землю, а главное — об анизотропном (по которому движение разрешено лишь в одну сторону) шоссе и о соке земляники.
На Земле, куда друзья вернули Антона, им почудилось, видите ли, что его руки в крови. Но это оказался всего лишь сок ягод, которые Антон собирал в лесу… И затем разъясняется, что в истории нельзя идти назад, как по тому шоссе. История, мол, тоже анизотропна. Этой упрощенной символикой авторы разом снизили тщательно обоснованную логику повести.
История и изотропна, и анизотропна — и не повторяется, и «любит повторяться». Эта диалектика — объективная реальность, и она противостоит пожеланию, с которым авторы обращаются к читателю в прологе и эпилоге. Чтобы идти вперед, к Бескровному Воздействию на историю, приходится порой отступать «назад» — браться за оружие. Что и делает Антон с товарищами, правильно (поддерживая бунтаря Арату) и неправильно (не справившись с личной ненавистью к дону Рэбе).
Показав, что людям будущего и во всемогуществе культуры и знания ничто человеческое не будет чуждо, авторы своим «земляничным» символом неожиданно предъявили Антону своего рода ультиматум патриаршей мудрости, требование идеального знания, лишенного чувств и страстей, над чем сами же иронизировали в «Далекой Радуге». Воодушевленные желанием показать, сколь важен в прогрессе критерий человека, Стругацкие вдруг стали мерить человека неприемлемой для них же самих в «Далекой Радуге» меркой абстрактного «Бесплотного разума. Мозга — дальтоника, Великого Логика».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский советский научно-фантастический роман"
Книги похожие на "Русский советский научно-фантастический роман" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Бритиков - Русский советский научно-фантастический роман"
Отзывы читателей о книге "Русский советский научно-фантастический роман", комментарии и мнения людей о произведении.