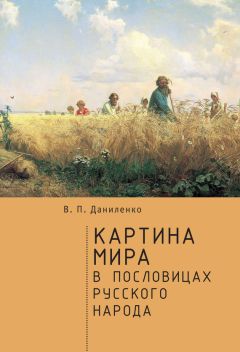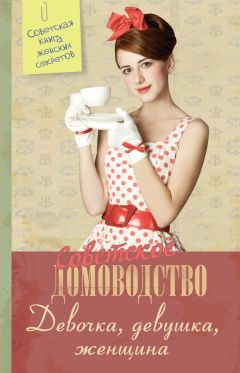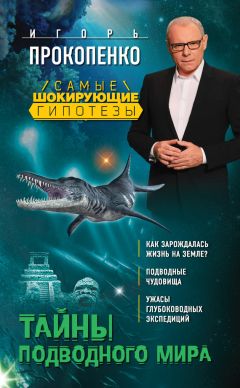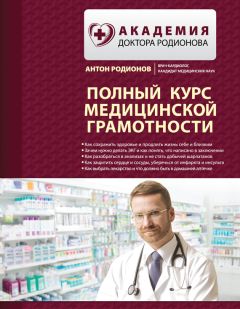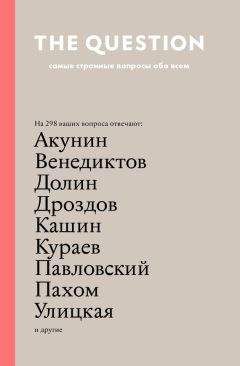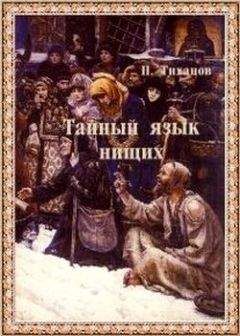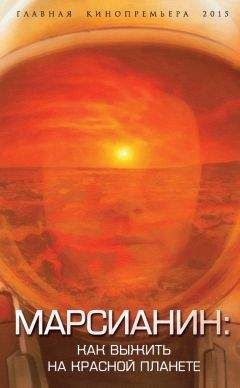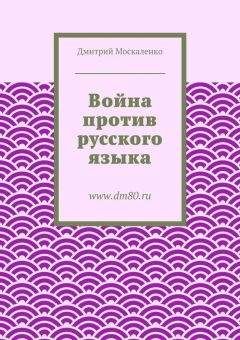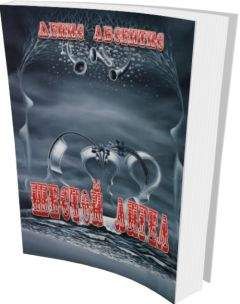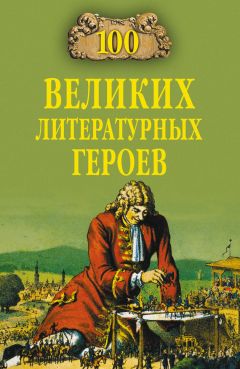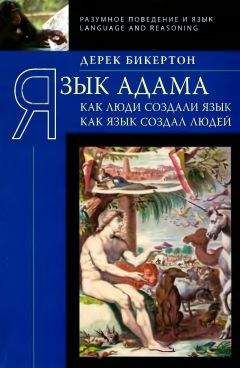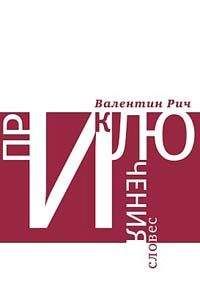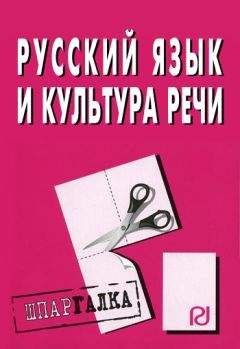Елена Первушина - Слова потерянные и найденные

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Слова потерянные и найденные"
Описание и краткое содержание "Слова потерянные и найденные" читать бесплатно онлайн.
Что же касается трех перечисленных диалектов, то Ломоносов отдает предпочтение московскому, но с некоторыми важными оговорками: «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы “о” без ударения, как “а”, много приятнее, но от того московские уроженцы, a больше те, которые немного и невнимательно по церковным книгам читать учились, в правописании часто погрешают, пишучи “а” вместо “о”: “хачу” вместо “хочу”, “гавари” вместо “говори”. Но ежели положить, чтобы по сему выговору всем писать и печатать, то должно большую часть России говорить и читать снова переучить насильно»7.
Еще Михаил Васильевич написал маленькую пьесу «Суд российских письмен перед разумом и обычаем от грамматики представленных», которую назвал «Лекарство от скуки и забот». Сюжет ее таков: на суд к Обычаю и Разуму приходит Грамматика – «боярыня… которая завсегда в алом платье с черными волосами ходит, и одно слово говорит десятью». Грамматика жалуется на то, что буквы ссорятся между собой, и просит рассудить их. В чем же предмет их спора? «Ѣ. говорит, что Е. выгоняет меня из «мѣста», «владѣния» и «наслѣдия», однако я не уступлю. Е. недоволен своим «селением» и «веселием», меня гонит из «утѣшенія». Е. пускай будет довольствоваться «женою», а до «дѣвиц» дела нет… Ф. жалуется, что Ѳ. отлучает его от «философов» и от «Филис»; пускай она остается с своим «Ѳокой», «Ѳадѣем» и «Ѳирсом». Ѳ. говорит, что я имею первенство перед Ф. у «Ѳеофана» и у «Ѳеофилакта», и для того в азбуке быть после его не вместо… С. и З. спорят между собою в предлогах» и т.д. За шуточными этими баталиями проглядывает продолжающееся «устроение языка», установление правил русской орфографии, которое не закончится и в следующем, XIX веке.
***Важные положения Ломоносов сформулировал также в статье «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»8. Ученый поделил слова русского языка на три группы. Первая – слова, общие для церковнославянского и русского языков, такие как: «бог», «слава», «рука», «ныне», «почитаю». Ко второй «принадлежат слова, кои хотя еще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю. Неупотребительные и весьма обветшалые отсюда выключаются, как: обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные. К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, которой, пока, лишь». То есть хорошо знакомые нам и прочно занявшие место в современном русском языке, чисто русские слова, не имеющие связи с церковнославянским языком.
Далее Ломоносов пишет: «От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственной и низкой. Первой составляется из речений славено-российских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных.
Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностью, чтоб слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова; однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного. Сим штилем писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия. Однако может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли, в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, еклоги и елегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных.
Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских общенеупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни; в прозе дружеские письма, описания обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению».
Таким образом Ломоносов в числе прочего выделил живой разговорный язык «дружеские письма, описания обыкновенных дел» и подчеркнул, что этому языку противопоказана нарочитая возвышенность и стремление «говорить красиво», употребляя устаревшие церковнославянские слова. (Два века спустя Михаил Булгаков добьется яркого комического эффекта, когда в своей пьесе «Иван Васильевич» заставит режиссера Якина объясняться с Иваном Грозным на языке, который режиссер полагает церковнославянским. Помните: «Паки, паки, иже херувимы… Ваше величество, смилуйтесь!»… На что Иван Грозный отвечает: «Покайся, любострастный прыщ, преклони скверну твою главу и припади к честным стопам соблазненной боярыни!» Вполне возможно, что эта сцена показалась бы смешной еще во времена Ломоносова.)
***Разумеется, один человек, даже такой талантливый, упорный и целеустремленный, как Ломоносов, не может разом изменить язык. Но русский язык продолжал развиваться сам собой, медленно приближаясь к той норме, которую многие лингвисты, филологи и литературоведы называют «языком Пушкина».
Посмотрите на приведенный ниже отрывок из памфлета старшего современника Пушкина Ивана Андреевича Крылова. Он кажется архаичным, не правда ли?
«СТУЖА, ДОЖДЬ И ВЕТЕР, СОЕДИНЯСЬ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ИЗО ВСЕЙ ОСЕНИ ДЕЛАЛИ САМЫМ НЕСНОСНЫМ ДЛЯ ПЕШЕХОДЦЕВ И СКУЧНЫМ ДЛЯ РАЗЪЕЗЖАЮЩИХ В ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЭКИПАЖАХ. ГРЯЗЬ ПОКРЫВАЛА ВСЕ МОСТОВЫЕ; НО ГРЯЗЬ, КОТОРАЯ СВОИМ ЦВЕТОМ НЕ ТАК, КАК ПАРИЖСКАЯ ДОГАДЛИВЫМ ФРАНЦУЗАМ, НЕ ПРИНОСИЛА НОВОЙ ДАНИ НАМ ОТ ЕВРОПЫ, А ДЕЛАЛА ТОЛЬКО МУКУ ЩЕГОЛЯМ, У КОТОРЫХ, КАК БУДТО В НАСМЕШКУ ПАРИЖСКИМ И ЛОНДОНСКИМ МОДАМ, ВЕТР ВЫРЫВАЛ ИЗ РУК ПАРАСОЛИ, ПОРТИЛ ПРИЧЕСКУ ГОЛОВ И ДАВАЛ ВОЛЮ ДОЖДЮ МОЧИТЬ ИХ КАФТАНЫ И МОДНЫЕ ПУГОВИЦЫ. ВСЕ ТОРОПИЛИСЬ ДОБРАТЬСЯ ДО ДОМОВ, И МНОГИЕ БРАНИЛИ СЕБЯ, ЧТО, ПОНАДЕЯСЬ НА КАЛЕНДАРЬ, ВЫШЛИ В ХОРОШИХ НАРЯДАХ».
И верно: этот памфлет под названием «Почта духов» написан Крыловым еще в 1789–1790 годах (автору было двадцать с небольшим лет). Если язык Крылова все же не показался вам достаточно старомодным, то оцените отрывок из написанного в те же 1789–1790 годы «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева:
«ОТУЖИНАВ С МОИМИ ДРУЗЬЯМИ, Я ЛЕГ В КИБИТКУ. ЯМЩИК ПО ОБЫКНОВЕНИЮ СВОЕМУ ПОСКАКАЛ ВО ВСЮ ЛОШАДИНУЮ МОЧЬ, И В НЕСКОЛЬКО МИНУТ Я БЫЛ УЖЕ ЗА ГОРОДОМ. РАССТАВАТЬСЯ ТРУДНО ХОТЯ НА МАЛОЕ ВРЕМЯ С ТЕМ, КТО НАМ НУЖЕН СТАЛ НА ВСЯКУЮ МИНУТУ БЫТИЯ НАШЕГО. РАССТАВАТЬСЯ ТРУДНО: НО БЛАЖЕН ТОТ, КТО РАССТАТЬСЯ МОЖЕТ НЕ УЛЫБАЯСЯ; ЛЮБОВЬ ИЛИ ДРУЖБА СТРЕГУТ ЕГО УТЕШЕНИЕ. ТЫ ПЛАЧЕШЬ, ПРОИЗНОСЯ ПРОСТИ; НО ВОСПОМНИ О ВОЗВРАЩЕНИИ ТВОЕМ, И ДА ИСЧЕЗНУТ СЛЕЗЫ ТВОИ ПРИ СЕМ ВООБРАЖЕНИИ, ЯКО РОСА ПРЕД ЛИЦЕМ СОЛНЦА. БЛАЖЕН ВОЗРЫДАВШИЙ, НАДЕЯЙСЯ НА УТЕШИТЕЛЯ; БЛАЖЕН ЖИВУЩИЙ ИНОГДА В БУДУЩЕМ; БЛАЖЕН ЖИВУЩИЙ В МЕЧТАНИИ. СУЩЕСТВО ЕГО УСУГУБЛЯЕТСЯ, ВЕСЕЛИЯ МНОЖАТСЯ, И СПОКОЙСТВИЕ УПРЕЖДАЕТ НАХМУРЕННОСТЬ ГРУСТИ, РАСПЛОЖАЯ ОБРАЗЫ РАДОСТИ В ЗЕРЦАЛАХ ВООБРАЖЕНИЯ».
Крылову было суждено прожить долгую жизнь – 76 лет, он видел, как Пушкин, трех царей – Павла, Александра и Николая, но еще успел застать и Екатерину и на семь лет пережить Пушкина. Одна из первых его басен нам хорошо известна. Это «Ворона и лисица», написанная в 1807 году. Помните, как она заканчивается?
ВЕЩУНЬИНА С ПОХВАЛ ВСКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА,
ОТ РАДОСТИ В ЗОБУ ДЫХАНЬЕ СПЕРЛО, —
И НА ПРИВЕТЛИВЫ ЛИСИЦЫНЫ СЛОВА
ВОРОНА КАРКНУЛА ВО ВСЕ ВОРОНЬЕ ГОРЛО:
СЫР ВЫПАЛ – С НИМ БЫЛА ПЛУТОВКА ТАКОВА.
И вот как Крылов писал в 1833 году:
«СЕНЮША, ЗНАЕШЬ ЛИ, ПОКАМЕСТ, КАК БАРАНОВ,
ОПЯТЬ НАС НЕ ПОГНАЛИ В КЛАСС,
ПОЙДЕМ-КА ДА НАРВЕМ В САДУ СЕБЕ КАШТАНОВ!» —
«НЕТ, ФЕДЯ, ТЕ КАШТАНЫ НЕ ПРО НАС!
ТЫ ЗНАЕШЬ ВЕДЬ, КА́К ДЕРЕВО ВЫСОКО:
ТЕБЕ, НИ МНЕ ТУДА НЕ ВЛЕЗТЬ,
И НАМ КАШТАНОВ ТЕХ НЕ ЕСТЬ!» —
«И, МИЛЫЙ, ДА НА ЧТО́ Ж ДОГАДКА!
ГДЕ СИЛОЙ ВЗЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ТАМ НАДОБНА УХВАТКА.
Я ВСЕ ПРИДУМАЛ: ПОГОДИ!
НА БЛИЖНИЙ СУК МЕНЯ ЛИШЬ ПОДСАДИ.
А ТАМ МЫ САМИ УМУДРИМСЯ —
И ДО́СЫТА КАШТАНОВ НАЕДИМСЯ».
За сорок лет русский язык значительно приблизился к тому, что мы называем «современной литературной нормой», и, кажется, здесь действительно не обошлось без Пушкина.
***Но и Пушкин стал Пушкиным не вдруг, не в тот момент, когда произнес свои первые слова и даже не тогда, когда написал первое стихотворение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Слова потерянные и найденные"
Книги похожие на "Слова потерянные и найденные" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Первушина - Слова потерянные и найденные"
Отзывы читателей о книге "Слова потерянные и найденные", комментарии и мнения людей о произведении.