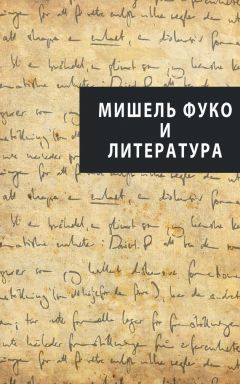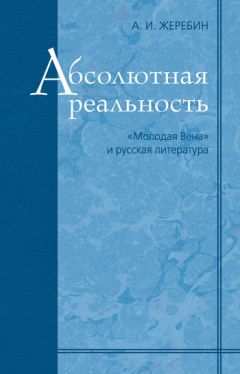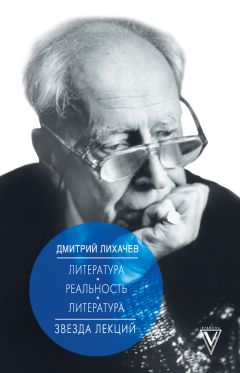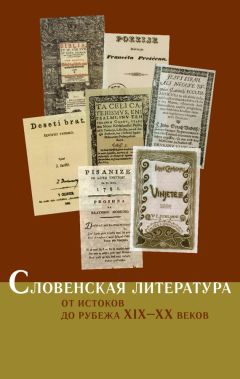Анатолий Демин - Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения"
Описание и краткое содержание "Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения" читать бесплатно онлайн.
Парадоксальное название книги «Древнерусская литература как литература» поясняется в подзаголовке: «О манерах повествования и изображения». Имеется в виду изучение выразительности, изобразительности и образности изложения в древнерусских литературных памятниках XI–XVII вв. Книга состоит из 26 очерков, которые расположены по хронологии произведений, – от старейших апокрифов до «Повести о Еруслане Лазаревиче» по списку 1710-х годов.
Книга предназначена, как определил один аспирант, – «для тех, кто привык читать книги».
Наконец, благоговейное отношение летописца к предвиденному будущему выдавали его ссылки на Бога. Так, Еремии «бе даръ дарованъ от Бога» верно предсказывать будущее (190, под 1074 г.); апостол Андрей угадал Божью волю, провозглашая: «на сихъ горахъ восияеть благодать Божья… и церкви многи Богъ въздвигнути имать» (8). Божье воздействие распространялось и на языческих предсказателей: хазарские старейшины «не от своея воля рекоша, но отъ Божья повеленья» (17); волхв Олега Вещего верно предсказал тоже по попущению Божию: «философескую хитрость имуще … ослабленьемъ Божьимъ… будущаа предпоказа» (41, под 912 г.).
Предсказания воинствующих язычников, естественно, вызывали у летописца не удивление и благоговение, а напротив, возмущение и презрение. Например, предсказание волхва, появившегося в Киеве, было грубо и отталкивающе парадоксальным: «Днепру потещи вспять, и землямъ преступати на ина места, – яко стати Гречьскы земли на Рускои, а Русьскои – на Гречьскои» (174, под 1071 г.). Показывая полнейшую вздорность такого будущего, летописец не упомянул, сбылось ли предсказание и имелись ли у него хоть какие-нибудь приметы или предпосылки, а предсказание волхва приписал воздействию не Бога, но беса: «волхвъ прелщенъ бесомъ»; люди тоже обвиняли волхва: «бесъ тобою играеть».
В летописи отразилось еще одно чувство летописца, относившееся к будущему – это ощущение неуверенности, когда предсказания оказывались зыбкими, предусматривая два противоположных варианта развития событий, или очень хороший, или очень плохой: «да любо налезу собе славу, а любо голову сложю» (266, под 1097 г.); «егда кто весть, кто одолееть, – мы ли, оне ли?» (46, под 944 г.); «аще по моемь ошествии света сего… манастырь ся начнеть строити и прибывати в нем, то вежьте, яко приялъ мя есть Богъ; аще ли по моеи смерти оскудевати начнеть манастырь черноризци и потребами манастырьсками, то ведуще буди, яко не угодилъ есмъ Богу» (187–188, под 1074 г.).
Различные оттенки тревожности и неуверенности летописца выражали и многочисленные небесные «знамения», сопровождаемые предсказаниями. «Знамения» могли предвещать неведомо что – то ли зло, то ли добро («знаменья бо бывають ова на зло, ова ли на добро» – 276, под 1102 г.), а если предвещали нечто плохое, то неясно, какое именно и когда оно сбудется («знаменья сиця на зло бывають – ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляеть» – 165, под 1065 г.).
В общем, отношение летописца к будущему представляло собой сплав различных чувств: удивления, благоговения, опасения и пр. Главное тут: летописец всегда эмоционально относился к фактам предвосхищения будущего. Причина заключается в общем характере «Повести временных лет»: все летописное повествование было пронизано явной или скрытой экспрессией летописца.
Для сравнения привлечем некоторые другие, тоже самые ранние, исторические и житийные произведения. Из исторических трудов родственным «Повести временных лет» является славяно-русский перевод «Хроники» Георгия Амартола, как известно, достаточно обильно использованный древнерусской летописью2. Тем не менее литературное различие между обоими памятниками разительно, в том числе в области предсказаний. «Хроника» Амартола, в отличие от эмоциональной «Повести временных лет» служила в первую очередь ученым трудом, что и определило подход Амартола к будущему и характер изложения предсказаний в его «Хронике»3.
Основное различие касалось, так сказать, технологии проникновения в будущее. При всем множестве ссылок на Библию в «Повести временных лет» летописец нигде не высказывался о Библии как об универсальном источнике предугадывания будущего. Ученый же подход Амартола к будущему выразился в подчеркнуто провозглашенной опоре на книги, прежде всего на Библию: надо «будущая проведети … беспрестаньнымь поучениемь пророчьскых и прочих святыхъ словесъ … философьею» (230); «прорицание некое въ святыхъ писаниихъ обретаемо» (220); «будущее оттуда древле исписано бысть» (456) и пр.
Далее. Летописец лишь однажды кратко перечислил некоторые суеверия, предвещающие будущее: «усрети верующе, – аще бо кто усрящеть черноризца, то възвращается, ли единець, ли свинью … зачиханию верують, еже бываеть на здравье главе» (170, под 1068 г.). Амартол же с удовольствием и помногу занимался учеными обзорами разных примет будущего, в особенности систематизацией оснований библейских предсказаний (что «Моиси и прочии пророци Божиею благодатью будущая преже ведяху» – 256), а еще больше – пространными реестрами языческих гаданий волхвов: «ово же есть и птицесмотренье, ово же блатное, другое же домосмотрьнье, ино же напутное, другое же рукосмотрьное…» и т. д. (70); «мукъволшвеници, и ячьновльници… волхвующе и дубравою, и кровавныя знамения, еще же и утробами, и летаниемь птичьнымъ, и званиемь чарование, и кытание, и буря, и громъ, мухами же, и ласицами, скрипаниемь древнымь, и звиздениемь ушьнымь, и кръвавицами телесными, и имены мертвьчи, и звездами, и водами и многыми таковыми» (169).
Летописец не вдавался в обсуждение вопроса о ясности или неясности предсказаний; а аналитик Амартол в этом деле, напротив, преуспел, постоянно комментируя качество предсказаний: «зело являя всемъ», «что луче божествъныхъ сихъ глаголъ и явнеише ли истиньнеише будеть?», «убо что истовее сихъ хощеть быти?», «предъглаголюща яве», «яве свидетельствують» и мн. др. (275, 277, 285, 336, 207). На неясность предсказаний Амартол тоже указывал регулярно: «притчами глаглющему», «притъчею намъ пророкъ изглагола», «запечателеньна суть словеса» (277, 281, 283). При этом, если летописец почти не уделял внимания толкованию предсказаний (разве лишь один-два раза – в рассказе о предсказании хазарских старцев в начальной части летописи и в рассказе о предсказании волхвов под 1071 г.), то Амартол пунктуально сопровождал предсказания развернутыми филологическими, числовыми, символическими и пр. разъяснениями и очень подробно и детально полемизировал, по его мнению, с неправильными толкованиями предсказаний.
В отличие от «Повести временных лет» с ее неопределенностью или странностью примет будущего, в «Хронике» Амартола приметы будущего были четко и логично расписаны, даже вплоть до предсказательного значения элементов одежды. Например, драгоценные каменья на архиерейском одеянии однозначно предвещали то или иное будущее: «толикомъ бо сущимъ камениемъ на немь блисташеся заря… яко темь разумети получение воемъ, да будеть Богъ с ними на помощь… Паче на адаманте камыце, иже, пременуя различья, будущая некая поведая, проявляше хотящее быти людемъ: аще чернъ будяше, то смерть; аще ли червленъ будяше, то кръви пролитие; аще ли белъ, – премену являющю Богу» и т. д. (44–45). Приметы были и не такими возвышенными, но все равно точно исчислимыми. Например, попадание или непопадание стрелы в землю соответственно означало будущую победу или будущее поражение (вот что пророк предсказал израильскому царю: «повеле ему по земли стреляти 5-краты. 3-е бо уполучно стрели, 4-е же не уполучи. И пророчествова ему до 3-го съступа победити асуряны, прочее же побежену ему быти. Аще бо 5-краты стрелы по земли уполучно стрелявъ, – 5-краты убо исполчивъся, сурьскую бы власть разрушилъ» – 183). У волхвов, по рассказу дотошного Амартола, тоже существовали четкие и ясные приметы будущего (хотя и неверные); в частности, гадали по полету птиц («аще не движеться пта, – пребыти на томь месте всемъ; аще ли, въставши, напредъ полетить, то всем ити; аще ли назадъ полетить, – въскоре възвратитися» – 46).
Наконец, если в «Повести временных лет» небесные знамения были сопряжены у летописца с неопределенным тревожным ожиданием, а точно исполняющиеся предсказания вызывали у летописца восхищенное удивление, то у гораздо более рационального Амартола экспрессия будущего отсутствовала, все было расчислено, место и время исполнения предсказания предусмотрены («прежерещи престроимъ и место, и время, и образъ, и злобие, и въсхожение и ина прочая съ многымь истовьемь» – 280); полнота исполнения оценена («аще не свершена вся си безъ остатъка» – 277); знамения на небе или на земле всегда предвещали зло и несчастья, незамедлительно разражавшиеся (например: «начашася … бывати знамениа на перстех человеческых и на церковных святых одежахъ крести неции масленши мнози, и такъ наста Божии гневъ мозолныи, чръмнаа нежитовница… и к тому бываху мечти неции на многыа человекы и ужасти некоторыа дивны» и т. д. и т. п. – 476); притом злых последствий можно было избежать при определенном расчете (типичный пример: «Бысть же изчезновение луне. Царь же митрополита Пантелеонта призва… вопроси его: “На кого хощеть быти зло?” Сеи же рече: “На тя. Аще въ 13 день иуниа месяца изидеши, – оттоле ничто же ти будеть зло”» – 539). Амартол так и утверждал: в предсказаниях о будущем важнее всего разумный расчет: «и смотрение есть паче, некли прорицание. И ничто же дивно таковая пророчествия имуть» – 169).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения"
Книги похожие на "Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Демин - Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения"
Отзывы читателей о книге "Древнерусская литература как литература. О манерах повествования и изображения", комментарии и мнения людей о произведении.