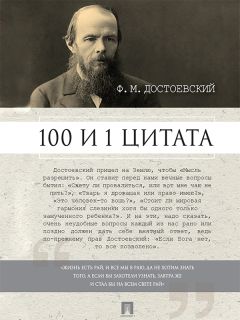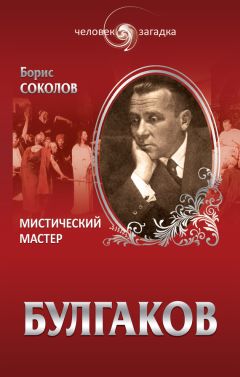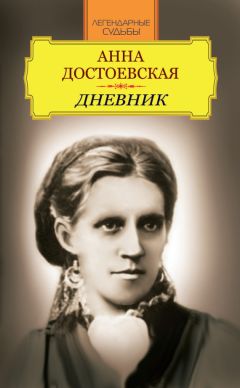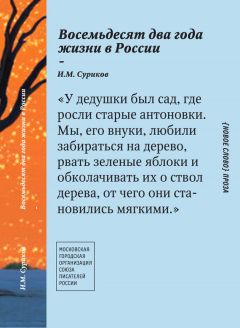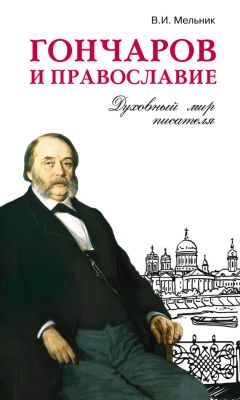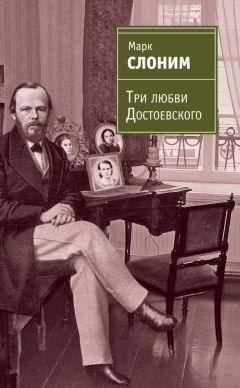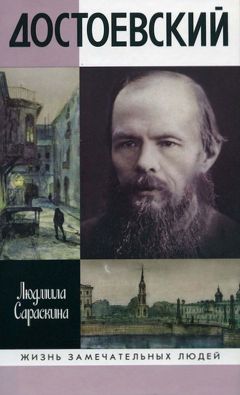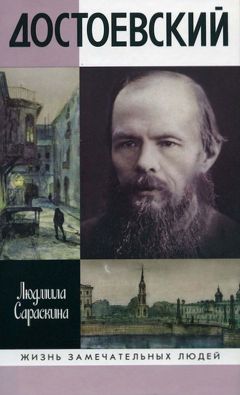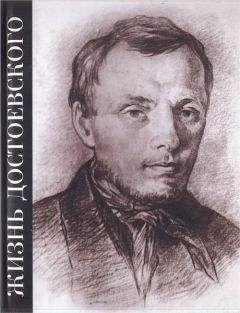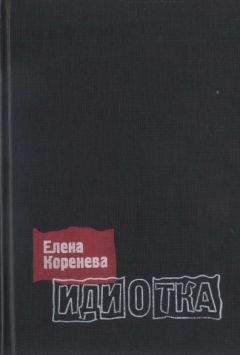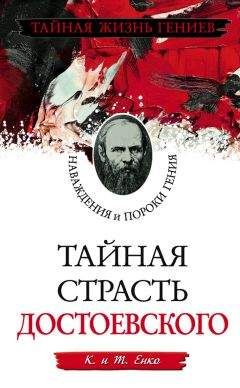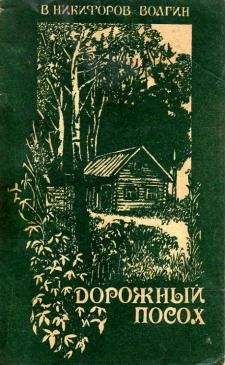Игорь Волгин - Последний год Достоевского
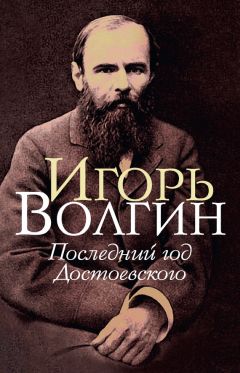
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Последний год Достоевского"
Описание и краткое содержание "Последний год Достоевского" читать бесплатно онлайн.
Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведенные на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе. В «Последнем годе Достоевского» судьба создателя «Братьев Карамазовых» впервые соотнесена с роковыми минутами России, с кровавым финалом царствования Александра II. Уникальные открытия, сделанные Игорем Волгиным, позволяют постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.
Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, – не отстаёт от Суворина Достоевский, – отчего всё это происходит, твёрдо ли знает он причины?..»
Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении – как непосредственную борьбу с крамолой, или же у него достанет сил пойти вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте всей русской истории? «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть…»[357] – сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить само злодейство.
15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (Сазонова) посетила Достоевского.
Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо редактировано…»[358]
Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своём всё время расширяющемся романном мире и в том, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой. Кто знает, может быть, и Смирновой (Сазоновой) он поведал о том же, о чём в эти дни толковал с Сувориным: об Алёше, совершающем «политическое преступление» и гибнущем на эшафоте.
«Говорит… как Лорис-Меликов будет ловить революционеров» – в этом нейтральном неразвёрнутом сообщении можно ощутить всё тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.
Он знал силу слова – и ему, писателю, не понравилась редактура (в своё время первое, что сделал Огарёв, разбирая в «Полярной звезде» коронационный Манифест Александра II, – это выбранил стиль[359]). Но ведал ли он о том, что воззвание Лорис-Меликова (как недавно выяснилось) было составлено близким к Суворину публицистом К. Скальковским по образцу воззваний Наполеона III, а затем отредактировано самим Сувориным?[360] (Кстати, этот малоизвестный факт объясняет некоторые недомолвки суворинских воспоминаний: может быть, издатель «Нового времени» сообщил Достоевскому о своём участии в политическом дебюте Лорис-Меликова, почему тот и донимал его вопросами.)
И всё-таки, несмотря на все свои опасения, он надеялся: «Я ему (Лорис-Меликову. – И.В.) желаю всякого добра, всякого успеха…»
20 февраля, по свидетельству Суворина, «он был необыкновенно весел». Издатель «Нового времени», просидевший у него два часа, утверждает, что он «радовался замирению» (именно так поняты им последние новости) и с большим оптимизмом смотрел в будущее: «Вот увидите, начнётся совсем новое. Я не пророк, а вот Вы увидите. Нынче все иначе смотрят»[361].
Так говорит Суворин в своих воспоминаниях. Теперь обратимся к его дневниковой записи, повествующей о тех же событиях. Хотя текст этот достаточно хорошо известен, имеет смысл обратиться к нему ещё раз.
Христос у магазина Дациаро20 февраля Суворин посетил Достоевского: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:
– А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.
И он продолжал набивать папиросы».
Естественно, разговор зашёл о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».
Обратим внимание: речь касается нравственной оценки.
«Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
– Нет, не пошёл бы…
– И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить…»[362]
«Если сравнить, – пишет Л. П. Гроссман, – эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придётся пожалеть об упавшей общественной морали великого романиста»[363].
Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаключение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном: о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к проблемам общественной морали.
В 1849 году он действительно вёл себя мужественно и честно: поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрёкся ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих товарищей и друзей.
Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим политическим противникам в минуту двойной смертельной опасности. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других (в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалеченных солдат Финляндского полка – по-видимому, не последняя величина в условиях этой поставленной самому себе задачи).
Рассматриваются две возможности: просто пойти предупредить – и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей – или обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.
Оба этих варианта по размышлении отвергаются.
Тут следует вновь обратиться к его предсмертному спору с Кавелиным.
Выше уже приводилась запись о том, что инквизитора, «сожигающего еретиков» в согласии со своими убеждениями, нельзя признать нравственным человеком. Через несколько страниц Достоевский вновь возвращается к этой теме.
«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»[364]
Это моральная проблема Родиона Раскольникова.
Действительно: если пролитие «крови по совести» (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо любое пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.
«Нравственно, – записывает Достоевский, – только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете».
Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней – оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьёт, – прошептал Тихон, опуская глаза», – после того как выслушал исповедь Ставрогина о растлении им двенадцатилетней Матрёши).
Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.
«Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос, – ещё раз приведём запись в последней тетради. – Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, – нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»[365].
Против этой записи, на полях, он ставит NB, три плюса и два восклицательных знака.
В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков – это эпоха Великого Инквизитора, «ночь Средневековья».
Но у него есть аргументы и поновее.
«Помилуйте, – записывает Достоевский, – если я хочу по убеждению, неужели я человек нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно»[366].
Попробуем в данном случае применить тот же критерий, который принимает сам Достоевский.
Христос, взрывающий Зимний дворец, – это выглядит чудовищно.
Но намного ли лучше выглядит Христос, доносящий полиции на тех, кто взрывает?
В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком»[367].
Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «непозволяющих» причин были не только одни «ничтожные».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Последний год Достоевского"
Книги похожие на "Последний год Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Волгин - Последний год Достоевского"
Отзывы читателей о книге "Последний год Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.