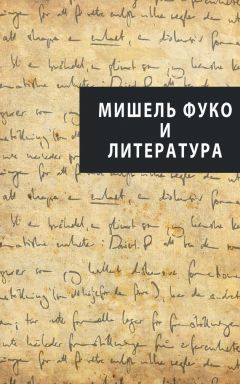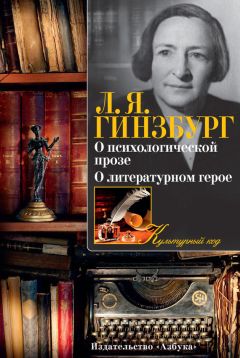Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию."
Описание и краткое содержание "Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию." читать бесплатно онлайн.
Монография представляет собой комплексное исследование функционирования танатологических мотивов в художественной литературе. Опираясь на богатые традиции изучения проблемы смерти в гуманитарной танатологии и литературоведении, автор выделяет специфическую область знания – литературоведческую танатологию, призванную выявлять и систематизировать танатологические элементы в литературе. Точкой отсчета для литературоведческих изысканий в этой сфере выбирается теория мотива, позволяющая сконцентрировать внимание на роли одного компонента текста в организации произведения, авторской творческой системы и даже исторически обусловленной художественной парадигмы. Логика исследования продиктована семиотическим подходом к мотивному анализу: изучаются семантика, синтактика и прагматика танатологических элементов. В контексте данных областей знака рассматриваются особенности репрезентации танатологических мотивов, их участие в организации сюжета, в создании образов персонажей, взаимодействие с различными художественными парадигмами, эстетическими категориями и т. д.
Книга адресована филологам, философам, культурологам и всем, кто интересуется вопросами литературоведения и гуманитарной танатологии.
В статье X. и И. Дэммрих для нас ценен не только опыт описания функционирования танатологических мотивов в западной литературе, но и перечень художественных текстов и список литературоведческих работ по проблеме в конце исследования [Daemmrich 1987: 81–82].
В. Казак указывает на стагнационное значение советского периода для изучения темы смерти в русской литературе [Kasack 2005: 287]. Наш обзор показывает, что большинство отечественных работ первой половины XX в., посвященных танатологической проблематике, было создано в культурной среде русской эмиграции. Однако крупнейшие российские литературоведы второй половины XX в., прежде всего М. Бахтин и Ю. Лотман, находили способы писать об этой теме.
Размышления о танатологических элементах в литературных произведениях обнаруживаются в нескольких сочинениях М. Бахтина. Уже в его работе «Автор и его герой в эстетической деятельности» (1920–1924) появляется разделение смерти «изнутри» и «извне» [Бахтин 2000: 125]. Эта проблема вписывается в общеэстетические рассуждения литературоведа: «В переживаемой мною изнутри жизни принципиально не могут быть пережиты события моего рождения и смерти; рождение и смерть как мои не могут стать событиями моей собственной жизни. (…) Помыслить мир после моей смерти я могу, конечно, но пережить его эмоционально окрашенным фактом моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого, я должен для этого вжиться в другого или других, для которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни; совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое своей жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая в зеркале свою наружность» [Там же: 127–128]. Вопрос о смерти оказывается поводом к осмыслению и переживанию другого, в сознании которого творческий субъект в силах увидеть себя, понять через него ценность своей жизни и своих поступков.
Данная идея развивается в последующих работах М. Бахтина. В заметках 1961 г. она обосновывается как концептуальная дифференциация повествования о смерти с точки зрения субъектной организации произведения, выбранной нарративной инстанции [Бахтин 1997: 347] (см. подробнее 2.3). Эта дифференциация становится одной из ключевых для литературоведа при сопоставлении художественных миров Ф. Достоевского и Л. Толстого. В «Проблемах поэтики Достоевского» (1963) М. Бахтин, рассматривая особенности субъектной организации рассказа Л. Толстого «Три смерти» («Здесь только один познающий субъект, все остальные только объекты его познания» [Бахтин 1972: 122]), предполагает, как этот же сюжет выглядел бы у Ф. Достоевского: «Конечно, Достоевский никогда не изобразил бы трех смертей: в его мире, где доминантой образа человека является самосознание, а основным событием – взаимодействие полноправных сознаний, смерть не может иметь никакого завершающего и освещающего значения» [Бахтин 1972: 124].
Танатологические мотивы исследуются М. Бахтиным и в свете его теории смеховой, карнавальной культуры. В очерках по исторической поэтике «Формы времени и хронотопа в романе» (1937–1938), анализируя материализующие ряды романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, он обращает внимание на «ряд смерти», на первый взгляд завуалированный, но чрезвычайно важный. По мнению исследователя, вместе с разрушением средневековой картины мира французский писатель «должен был переоценить и смерть, поставить ее на свое место в реальном мире (…). Это значило – показать материальный облик смерти в объемлющем ее и всегда торжествующем ряду жизни…» [Бахтин 1975: 343]. М. Бахтин показывает специфические приемы изображения смерти у Ф. Рабле, отвечающие карнавальному духу романа, указывает на «непосредственное соседство смерти со смехом, едой, питьем, половой непристойностью» [Там же: 348], которое можно встретить и у других представителей эпохи Возрождения (Дж. Боккаччо, Л. Пульчи, У. Шекспира), символиста Ш. Бодлера.
Таким образом, танатологическая проблематика пронизывает наследие М. Бахтина. Она вписывается в его основные концептуальные идеи: полифонии, эстетического взаимодействия автора и героя, разграничения типов наррации, карнавальных инверсий – иллюстрирует их, становится необходимым условием их обоснования.
Черты методологии танатологического анализа обнаруживаются в поздних сочинениях Ю. Лотмана. Т. Кузовкина выделяет следующие основные ступени развития этой темы в работах ученого: «1) определение понятий неподвижности, небытия, пустоты (мы бы назвали это попыткой осмыслить смерть на некоем метатеоретическом уровне, уровне философских, понятийных абстракций); 2) осмысление жизни и смерти на биологическом уровне; 3) определение понятия индивидуальности как необходимого звена в осмыслении проблемы жизни / смерти; 4) связь жизни и искусства» [Кузовкина 1999: 262]. Речь идет прежде всего, по-видимому, о последней опубликованной статье Ю. Лотмана «Смерть как проблема сюжета» (1992) [Лотман Ю. 1994], о которой также поговорим немного позднее (см. 2.3), трудах «Культура и взрыв» (1992, глава «Конец! Как звучно это слово!») [Лотман Ю. 2000: 137–141], «Беседы о русской культуре» (1993, главы «Дуэль», «Итог пути») [Лотман Ю. 1999: 164–179, 210–230] и др. Лидер московско-тартуской семиотической школы одним из первых рассматривает мотив смерти как структурный элемент, способствующий порождению смысла знаковых систем и культуры в целом, влияющий на их характер (циклический, линейный), провоцирующий их на противостояние с ним («борьбу с “концами”» [Лотман Ю. 1994: 419]). Ю. Лотман уделяет также много внимания взаимодействию искусства и действительности и моделям жизни и умирания, которые исторические личности заимствовали из литературы (Катон Утический из трагедии Дж. Аддисона «Катон» – А. Радищев [Лотман Ю. 2002: 250]).
Танатологической проблематикой интересовались и другие представители московско-тартуской школы. Так, В. Топоров в работах «О “поэтическом” комплексе моря и его психофизиологических компонентах» (1991) [Топоров 1995: 575–622], «Странный Тургенев» (1998, глава «Любовь и смерть» [Топоров 1998: 54—183]) пишет о глубокой связи между внутренним и художественным миром писателя, между планом содержания и планом выражения, когда форма способна нести в себе смыслы из области бессознательного, где в круг ведущих интенций входит влечение к смерти и к «пренатальному состоянию».
Как видим, и Ю. Лотман, и В. Топоров активно занялись танатологическими вопросами лишь в 1990-е гг. На рубеже XX–XXI вв. гуманитарная танатология стремительно утверждается в России. Из последних наиболее значимых событий в данной сфере отметим конференцию «Мортальный код в знаковых системах культуры», состоявшуюся в 2012 г. в Твери[17], и сборник «Феномен смерти в художественном изображении» [Феномен смерти 2012], вышедший в том же году в Кемерове. И в конференции, и в сборнике приняли участие представители различных дисциплин, в том числе и литературоведы.
Количество работ, посвященных проблеме смерти в литературе, огромно. Из этого обширного корпуса исследований обратим внимание на те, что в той или иной мере разрабатывают теоретические основы литературоведческой танатологии.
Начать нужно с научной деятельности О. Постнова, в первую очередь с его книги «Пушкин и смерть: Опыт семантического анализа» (2000). Литературовед заявляет широкую тему на будущее – общий труд «Смерть в России», предполагая исследовать «силовые поля» темы смерти в произведениях В. Жуковского, П. Вяземского, А. Майкова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского и др. [Постнов 2000: З][18]. Начинает О. Постнов реализацию своего замысла с творчества А. Пушкина и уделяет особое внимание методологии изучения: «…Весь ход исследования распадается на два этапа. Первый принимается как бы “по умолчанию” и включает всю совокупность феноменов, не поддающихся интеллектуальному постижению, то есть принципиально всегда неравных ему. Таким образом, наш научный проект заведомо предполагает этап приобщения (который в искусстве принято обозначать как акт эстетического сопереживания), формальное выражение которого, правда, нашло себе место лишь в системе цитирования пушкинских текстов, основанной на подразумеваемом “ответном”, уже состоявшемся приобщении читателя, не нуждающегося в развернутых цитатах. Второй этап, в максимальной степени нашедший выражение в тексте работы, связан с тем общим и очевидным фактом, что тема “Пушкин и смерть”, как и любая сквозная тема в пушкинском творчестве, обширна и многопланова. (…) Можно сказать, что наиболее верным было бы решение показать логику возникновения тех типов трагического (а вместе с ним и образом смерти), которые выявлены Лапшиным» [Там же: 9—10] (речь идет о видах трагического, выявленных в работе И. Лапшина «Трагическое в произведениях Пушкина» [Лапшин 1998: 319–334]). В методологии О. Постнова приоритетными становятся герменевтические приемы «приобщения», «эстетического сопереживания», изучения «логики возникновения», в итоге – толкования семантики танатологических мотивов в произведениях А. Пушкина. Перспективными представляются и другие идеи литературоведа: о необходимости исследования художественной танатологии поэта «в хронологической последовательности»; о важности характеристики «риторического и мировоззренческого фундамента проблемы смерти (культурно-бытового взгляда на нее), который существовал в его эпоху независимо от литературы или, по крайней мере, не только в ней»; о «специфической “валентности”» темы смерти у А. Пушкина, вступающей «в весьма своеобразные отношения с другими ведущими темами»; выделение трех образов смерти: «аполлонического» (смерть поэта), «героического» (смерть воина) и «эротического» (смерть мудреца) [Постнов 2000: 11, 13, 15, 35].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию."
Книги похожие на "Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию."
Отзывы читателей о книге "Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию.", комментарии и мнения людей о произведении.