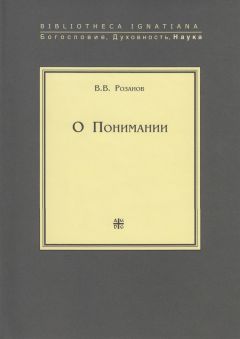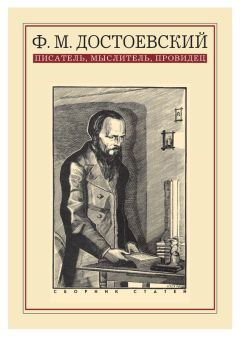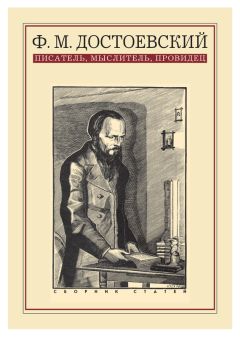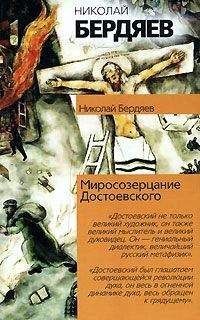Василий Розанов - От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
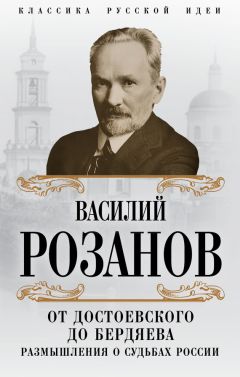
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России"
Описание и краткое содержание "От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России" читать бесплатно онлайн.
Василий Васильевич Розанов (1856-1919), самый парадоксальный, бездонный и неожиданный русский мыслитель и литератор. Он широко известен как писатель, автор статей о судьбах России, о крупнейших русских философах, деятелях культуры. В настоящем сборнике представлены наиболее значительные его работы о Ф. Достоевском, К. Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве, П. Флоренском и других русских мыслителях, их религиозно-философских, социальных и эстетических воззрениях.
IV
Всякий раз, когда какая-либо причина производит ряд подобных явлений, сила ее действия умаляется по мере того, как они дальше и дальше от нее отходят; и, наоборот, возрастает по мере того, как они к ней приближаются. А с тем вместе и каждое единичное явление, которое несет в себе миг этого действия и им существует, бывает выражено тем ярче и полнее – оно тем больше заключает в себе бытия, в чем бы последнее ни проявилось, – чем ближе, в ряду однорядных явлений, стоит к их общему источнику. Так движение камня, подброшенного вверх, бывает наиболее быстро в момент отделения его от подбросившей руки; и, наоборот, когда он падает, его движение наиболее быстро в момент прикосновения к земле, которая его притянула. Рука и земля, в обоих случаях, являются общим источником бесчисленного ряда неуловимо малых перемещений камня, сливающихся в линию его полета; и из этих перемещений ни одно по своим качествам (быстроте) непохоже на другое, но каждое ближайшее к своей причине энергичнее, нежели более удаленное от нее. Равным образом, если мы возьмем сферу, столь несхожую с механическими явлениями и так, по-видимому, от них удаленную, как жизнь психическая и историческая, мы увидим нечто аналогичное и в ней. Осуществление замысла какого-нибудь – еще тускло, недеятельно, пока он обдумывается только, когда манящий человека предмет далек; оно напряженнее в моменты, когда уже осуществляется, и, наконец, обращается в страсть, в порыв, когда предмет обладания уже находится перед глазами, или вещь исполняемая – почти готова. Великие завоеватели именно тогда уже, когда почти ничто не мешало ни величию их, ни всякому кажущемуся счастью, против этого «почти» устремлялись всегда так стремительно, что иногда гибли от необдуманности и быстроты движения (Персия – против Греции, Наполеон – против России; с иным исходом – Тамерлан против ненужной и даже неизвестной ему Восточной Европы). В этих и подобных фактах, число которых каждый без труда может увеличить, присматриваясь к окружающему, мы наблюдаем, что всякий раз, когда одна и та же причина порождает ряд звеньев – те из них, которые к ней ближе, исполнены бывают сильнейшего напряжения.
V
Если, руководимые этою мыслью, мы обратимся к органическому миру и захотим спросить себя: в чем именно здесь должна выразиться энергия явлений, которая для движения выражается в быстроте его, для света – в яркости, для желания – в его возрастающей нетерпеливости и пр., то, вникая в главное, к чему направляется органическая жизнь, что в ней творится, мы должны будем ответить следующее: при равенстве прочих условий, количество жизненной энергии, заключенной в каждом организме, тем более (в нем сравнительно с другими организмами), чей развитие его органическое сложение, т. е. чем многочисленнее и разнообразнее его функции и чем отчетливее и исключительнее каждая из них. Пусть причина, движущая органическую жизнь и заставляющая ее трансформироваться из одной формы в другую, остается вечно неизвестною; все-таки несомненным будет, что напряжение этой силы тогда больше, когда она производит сложное, чем когда она создает простое, – хотя бы уже потому, что сложное состоит из простого, которое в нем удвоено, утроено и т. д.
Таким образом, 1) сложность организации и 2) обилие своеобразных (одна на другую не похожих) функций, в ней совершающихся, может служить несомненным критериумом степени напряжения жизненной энергии на всех ступенях растительного и животного мира. Руководимые показаниями этого критериума, мы уже без труда можем определить, в каком направлении энергия жизни увеличивается и, следовательно, где находится скрытный центр ее биения.
Самый общий и постоянный факт, наблюдаемый в развитии органического мира от момента его появления на земле и до настоящего времени, заключается в том, что сложность организации отдельных особей, его составляющих собою, была все возрастающею во времени и никогда – убывающею. Вечное усложнение в строении, увеличение числа функций и ускорение каждой функции порознь – это и есть элементы, которые мы соединяем в одно целое, обозначая их общим именем развития. Простая протоплазма, эта живая слизь, без какой-либо организации и с одним общим свойством всего живого – раздражимостью[27], была первою основой органического мира. Эта бесформенная и почти косная масса была носительницею жизни, которая здесь едва мерцала, одна была различима. Актом рождения, без какого-либо перерыва в темной глубине веков, с этою протоплазмой соединен органический мир, теперь покрывающий землю, – этот трепет жизни, эта красота мироздания, это чудное разнообразие форм, цветов и звуков, наполняющих землю и оглушающих ее шумом вечной радости. Будем ли мы отрицать, что энергия жизни в нем теперь не больше, чем она была в той первой протоплазме, что она нисколько по времени не возросла? Нужно закрыть глаза на землю, чтобы сказать это; нужно преднамеренно отвернуться от природы, чтобы не слушать ее голоса и в этой глухоте и слепоте сохранить свою мысль и избежать вывода, который уже теперь ясен.
И в самом деле, если энергия органической жизни является возрастающею во времени, и это выражается в общем и постоянном факте возрастания сложности органического строения, то это не может зависеть ни от чего другого, кроме как от того только, что она приближается к своей причине, а не удаляется от нее. То есть что скрытый центр, откуда пульсирует в течение тысячелетий органическая жизнь, лежит не позади органических явлений, и они не исходят из него, не отталкиваются им, но – впереди их и они стремятся к нему, восходят.
VI
Всякий раз, когда источник какого-нибудь действия лежит позади этого действия (в пространстве или времени) – мы усвояем ему имя причины: таков толчок по отношению к движению; напротив, когда источник действия лежит впереди или после его – мы называем его целью: такова улучшенная форма чего-либо по отношению к процессу улучшения, через который оно проходит. Процессы, которые исходят от своих причин, всегда суть процессы только количественные; и с одной же количественной стороны могут быть познаваемы предметы, которые являются результатами их (масса, объем, фигура, положение и т. п.). Напротив, процессы, которые выходят к своим целям, суть также и качественные: качество есть новая сторона здесь, которая зависит от большего или меньшего соответствия целесообразно устроенных предметов или целесообразно совершающихся явлений с конечною целью, к которой они восходят, ради которой они устроены или совершаются.
Таким образом – не причина, скрытая в глуби времен, есть движущее начало всего органического процесса; но – цель, лежащая в будущем и нам еще неизвестная, которая устрояет этот мир и переводит его от формы к форме с помощью причин, механических в отдельности, но в целом планомерно расположенных. Подобно тому, как и воля человека, целесообразно устрояющая государство или возводящая здание, опирается на законы природы или души человеческой и действует с помощью их механически.
VII
Жизненное напряжение, о котором мы сказали ранее, что оно есть источник красоты в органической природе, раскрывается, таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей органическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще не достигнута; и она же мешает этим формам слиться в ряде тожественных, не отличимых друг от друга существ, пока ни в одной органической особи цель не достигнута, – и это есть истинная причина ее стремления рождать. Если бы дети совершенно походили на своих родителей – самого акта рождения не было бы в органической природе; возможное различие того, что будет порождено, есть настоящая причина всякого зарождения, какое когда-либо было. Потому что без этого различия не было бы приближения органических форм к своему источнику, а оно, это приближение, и есть источник жизненной энергии, которая сообщается особи в момент ее зачатия и даст ей силу повторить его. Особь есть только мимолетное звено в процессе вечного достигания; и она живет и дает другим существам жизнь лишь настолько, насколько достигает. Индивидуальные различия, которые мы находим во всех особях данного вида, есть результат их усилий переступить через границы своего вида – далее; и, насколько они уже бессильны сделать это сами, потому что связаны родительскою формой, которую несколько разрушили, и не в силах разрушить более – они стремятся достигнуть этого, по крайней мере, в потомстве. В этих усилиях, в этих вечных всплесках жизненной волны к своему неподвижному источнику, не все достигают своей цели: многие уклоняются в сторону или под влиянием внешних физических деятелей, или потому, что самое усилие было судорожно и неправильно; большинство не переходит обыкновенного уровня поднятия и, обессиленное – падает назад; но некоторые поднимаются высоко – и появляется то, что принято называть «крупными самопроизвольными изменениями организмов»: первая ступень в образовании нового вида. Явление смерти, как индивидуальной, так и видовой, равным образом явление уродливости – эти не общие и исключительные особенности органической природы – находят здесь свое объяснение. Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее от того, что она не доходит в особь или вид из вечного источника, к которому они стремились некогда приблизиться – и тогда жили, в соотношение с которым теперь почему-либо в них прервано. Бессилие стать к этому источнику ближе есть причина смерти, как самое приближение – причина жизни. В общем же причиною того и другого служит бессилие или, наоборот, способность производить из себя различное. Всякий раз, когда в акте рождения уже передана особью своему потомству способность к дальнейшему достижению цели, и она ничего более не может сделать, как только повторить себя – она выпадает из органического процесса, как его ненужное звено, и умирает. Здесь лежит объяснение и явления старости – этого бледного и косного существования, где жизнь уже не поднимается более, где остаток ее, слишком недостаточный, чтобы передаться, медленно растрачивается на поддержание в неподвижном состоянии прежней организации; и когда растрачивается на это все он – организм разрушается. Отсюда же объясняется и то, что этого явления старости, иногда продолжительного в высших организованных существах, полных жизненной энергии, нет в низших, со слабою энергией, которой едва хватает на то, чтобы передаться потомству в несколько увеличенном виде: поэтому многие из них умирают, как только родят. Так происходить индивидуальная смерть. Вид же или род умирает потому и тогда, когда он или породил уже высшую, чем сам, органическую форму, или когда он уклонился с пути этого порождения лучшего. В первом случае он связан с ныне живущими видами и родами непрерывающимся рядом промежуточных форм; во втором случае он является вымершим без потомства, как бы отделившеюся от органического мира ветвью, которая угасла, ничего не производя. И там и здесь органическая форма вымерла потому, что утратила силу рождения, сделавшись способною только повторять себя, по не производить что-либо новое, ближайшее к вечнодостигаемому источнику всей органической жизни.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России"
Книги похожие на "От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Василий Розанов - От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России"
Отзывы читателей о книге "От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России", комментарии и мнения людей о произведении.