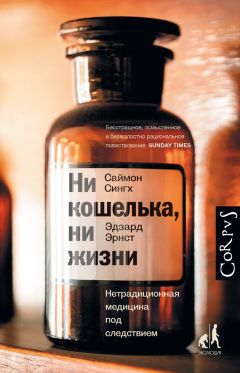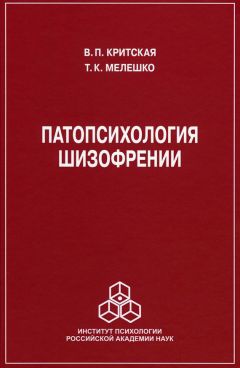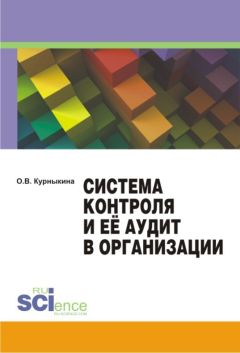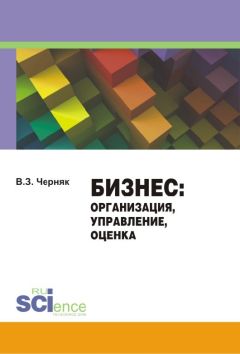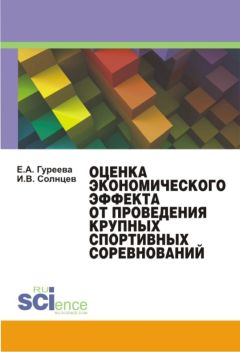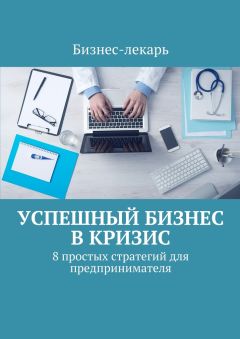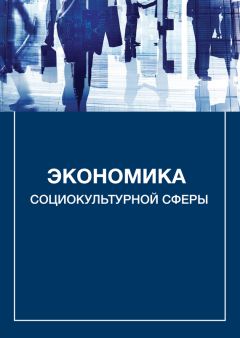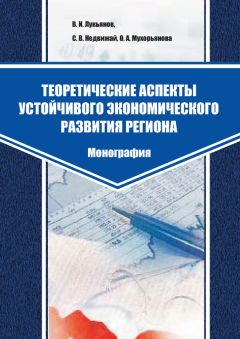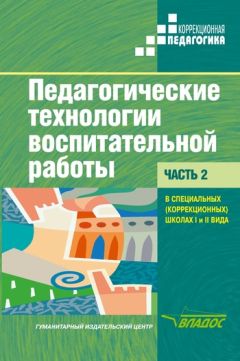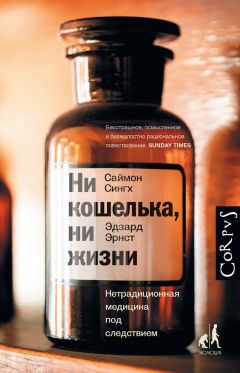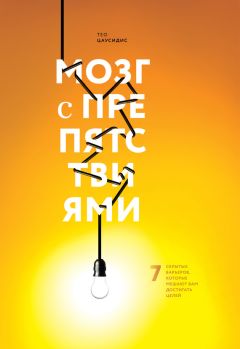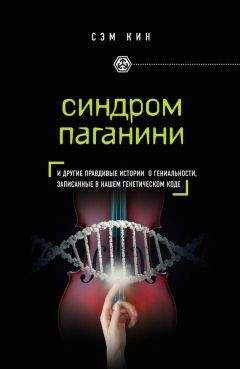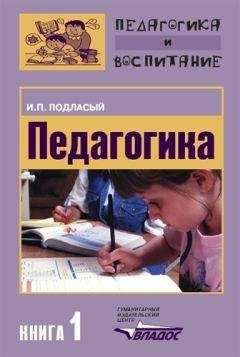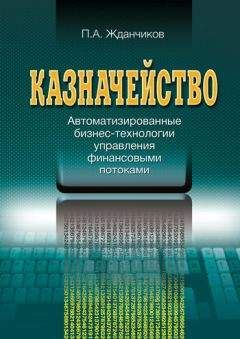Джиллиан Тетт - Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе
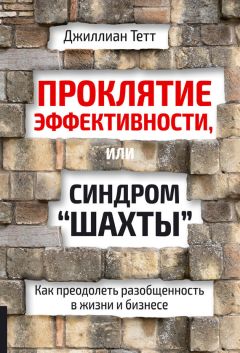
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Описание и краткое содержание "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе" читать бесплатно онлайн.
Синдром «шахты», или «силосной башни» (the silo efect), волнует бизнес-сообщество уже не одно десятилетие. Усложнение организационной структуры, сужение специализации подразделений и сферы деятельности их сотрудников может привести к размытости общей стратегии компании и забвению ее основной цели. Эта проблема впервые была обозначена как дивергенция целей организации и описана такими социологами, как Г. Саймон и Ф. Селзник.
Шеф-редактор газеты Financial Times Джиллиан Тетт в предлагаемой читателям книге определяет синдром «шахты» более широко – как «любое строгое разделение функций, полномочий и представлений», в том числе взглядов и установок. Отвечая на вопрос, неизбежно ли возникает эта проблема при развитии организации, автор книги переводит анализ в русло социальной и культурной антропологии и предлагает нетривиальные бизнес-решения.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, поскольку автор не только обращается к исследованию синдрома «шахты», но и дает примеры его успешного преодоления во всемирно известных организациях.
Кабилы сочли странным вопрос Бурдье о том, почему они так организуют пространство в домах. Для них подобный способ систематизации помещения, объектов и людей являлся обычным. Они с детства привыкли к такой организации своего жилища и не считали это странным. Если бы кто-то предположил, что кабилам стоит хранить влажные, зеленые и мокрые предметы там, где спят мужчины, они бы рассмеялись и поморщились так же, как и жители небольшого американского города сильно удивились бы, если бы им предложили хранить шампунь в машине или поставить холодильник под кроватью. Для мира кабилов данная норма была естественной.
Но Бурдье, наблюдавший за жизнью кабилов со стороны, понял, что она не является чем-то предопределенным.
Однако архитектура дома отражает и другие аспекты жизни племени. Мужчины занимают лучшую часть помещения, так как в кабильской культуре мужчины имеют более высокий статус, чем женщины. Общественное пространство дома отгораживается от личного, а «мокрые» и «плодородные» виды деятельности, согласно религиозным представлениям, отделяются от «сухих». План кабильского дома отражал социальную и ментальную карту, и это создавало едва заметную, поддерживаемую совместно всеми членами сообщества взаимосвязь пространства, мышления и тела. Организация дома кабилов, с одной стороны, зависела от культурных норм, в частности как женщины должны взаимодействовать с мужчинами, а с другой – закрепляла эти нормы, и в конце концов они воспринимались как абсолютно естественные.
Но в этом кабилы не уникальны. Подобная взаимосвязь прослеживается во всех человеческих обществах. Перенесемся в Нью-Йорк и войдем в здание городской администрации – величественный Сити-Холл. Став мэром, Блумберг обнаружил, что планировка правительственного учреждения отражает местные представления о том, как люди должны работать. Расположение сотрудников противопожарной безопасности в специально выделенных секторах отражало идею о том, что эти работники были особой командой. Но справедливо и обратное: именно то, что пожарники сидели отдельно от других подразделений, придавало им ореол исключительности – и подобное разделение казалось оправданным. Способ организации пространства зависит от нашего взгляда на мир, но и определяет его. То, как мы конструируем учреждения, находит отражение и в нашей системе классификации. Все мы являемся творениями своей среды в физическом, социальном и ментальном смыслах, несмотря на то что мы, как правило, этого не замечаем. Привычка, как известно, – вторая натура.
В 1961 году Пьер Бурдье покинул Алжир. К тому времени французские войска, применявшие жесточайшие методы подавления восставших, вызвали широкомасштабное сопротивление населения. К слову сказать, агрессивная политика французской армии была настолько непродуктивной, что после того, как американские войска вошли в Ирак пятьдесят лет спустя, в Пентагоне офицерам показывали фильм «Битва за Алжир» в качестве предостерегающего рассказа о том, чего не нужно делать на Ближнем Востоке.
Сопротивление было столь мощным, что французское правительство решило свернуть военную операцию. Разгневанные этим французские колонисты стали мстить представителям французской интеллигенции, противостоящим войне, и Бурдье пришлось бежать, опасаясь за свою жизнь.
Он вернулся в Париж на достойную академическую должность и работал с известным социологом Раймоном Ароном[127]. Постепенно Бурдье приобрел репутацию антрополога и эксперта по Алжиру. Не будем забывать, что в это время как раз развивалась полевая антропология и ученые изучали экзотические, незападные культуры, вроде берберского народа кабилов. Но Бурдье снова отказывается быть как все.
В 1959 году, еще работая в Алжире, он навестил свою семью во Французских Пиренеях и был поражен тем, что увидел. Отстраненно взглянув на родной город, ученый понял, что у жителей французской сельской местности столько же правил, стереотипов и социальных карт, сколько и у кабилов. И для французов их правила казались естественными, если не очевидными. Но для человека со стороны ситуация выглядела совсем иначе.
Итак, у Бурдье появился смелый план. Он пригласил во Францию, в свой родной городок, Абдельмалека Саяда, студента факультета социологии из Алжира. Они тесно сработались в Алжире, проводя совместные исследования: Саяд, будучи местным жителем, понимал, как функционирует алжирская культура, а француз Бурдье мог заметить стереотипы алжирской культуры, которых Саяд был не в состоянии различить. Бурдье предположил, что такой же подход может сработать и в обратную сторону: Абдельмалек, как человек другой культуры, сможет выявить странности, которые игнорируют французы.
Это была совсем не та антропология, какой ее представляли викторианцы, вроде Джеймса Фрэзера. Начнем с того, что Бурдье перевернул колониальную систему отношений, поставив жителей французской деревни в один ряд с кабилами. Но Бурдье был убежден, что лучший способ понимания любого общества – это использование подхода «Мы – Они» и смена точки зрения. Таким образом, Саяд и Бурдье повторили то, что они уже проделывали в Алжире: они бродили по холмам юго-восточной Франции, наблюдали за повседневной жизнью людей, общались с ними, проводили измерения. Иногда, чтобы увидеть местную культуру глазами настоящего «своего», Бурдье брал с собой отца. В других случаях он специально ставил себя в позицию «чужого». «Самым явным признаком превращения [из „своего“ в наблюдателя] было активное использование мною фотографий, карт, планов местности и статистических данных», – объяснял он позже[128]. Но, меняя взгляд, он обретал новое уникальное представление об anthropos Франции. Это произвело неожиданный освобождающий эффект и на личность самого ученого. Двадцать лет назад Бурдье негодовал, чувствуя себя исключенным из круга снобистской французской элиты. Теперь он осознал, что детский гнев обернулся неожиданной пользой – он научился замечать культурные стереотипы. Вместо того чтобы просто желать разрушения этой иерархии, теперь он хотел понять ее.
В последующие годы Бурдье расширил сферу своего анализа и занялся изучением западной культуры. Сначала он сосредоточил свое внимание на французской элите и попытался проанализировать, как ее, казалось бы, обыденный выбор еды, произведений искусства, мебели и других предметов обихода помогает очертить границы современного французского общества и разделить его на различные социальные группы. В одной из своих самых известных книг «Различение: социальная критика суждения»[129] он проанализировал то, как повседневные действия – такие, например, как решение, заказать ли в ресторане суп буйабес, – сопряжены с социальными ярлыками и маркерами, относящими людей к различным группам. Любые решения, которые ежедневно принимают люди, никогда не бывают незначительными или бессмысленными. Небольшие сигналы постоянно отражают и укрепляют соотношение сил. Наши взгляды на то, что считать красивым, уродливым, устаревшим, модным или первоклассным, классифицируют людей (и предметы) по особым ментальным и социальным сегментам.
Затем Бурдье обратил свой взор на мир американского искусства, природу фотографии, работу современных СМИ и поведение политических групп. Он обратился к французской образовательной системе и различным научным группам, доминирующим в университетах Парижа. Он изучал беднейшие слои французского общества, пытаясь составить представление о том, как «обездоленные» люди живут в имеющих дурную репутацию banlieue – предместьях Парижа. Куда бы Бурдье ни направлялся, он везде жадно слушал и наблюдал то с позиции «своего», то – «чужого». Используя и метод включенного наблюдения Малиновского, и подход Леви-Стросса, Бурдье пытался выявить стереотипы, которые сами члены сообщества не всегда способны осознать.
«Я часами слушал беседы в кафе, во время игры в петанк[130] и на футбольных матчах, в почтовых отделениях, а также на приемах, коктейльных вечеринках и концертах, – рассказывал Бурдье. – Мне удавалось оказаться в мирах с различным мышлением, прошлым и настоящим, далеко-далеко от моего собственного мира… аристократы или банкиры, танцовщики Парижской оперы или артисты „Комеди Франсез“[131], организаторы аукционов или нотариусы, – я старался раствориться [в их мирах]»[132].
Исследования привели к написанию 57 книг и породили множество теорий. Перечислим пять наиболее важных из них, так как они обеспечивают концептуальную основу этой книги.
• Во-первых, Бурдье полагал, что человеческое общество создает стерео типы мышления и системы классификаций, которые люди усваивают и используют для организации пространства, идей и распределения людей по группам. Бурдье называл физическую и социальную среду, в которой живут люди, «габитус» (habitus) и считал, что складывающиеся в габитусе установки не только отражают ментальные карты (системы классификации), но и поддерживают их.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Книги похожие на "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Джиллиан Тетт - Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе"
Отзывы читателей о книге "Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе", комментарии и мнения людей о произведении.