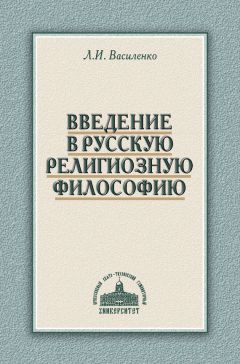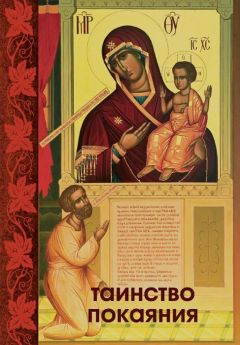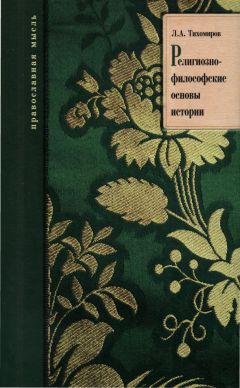Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Таинства в истории отношений между Востоком и Западом"
Описание и краткое содержание "Таинства в истории отношений между Востоком и Западом" читать бесплатно онлайн.
Впервые в русском переводе издается известная монография Роберта Готца, посвященная проблемам развития богословия таинств в традициях христианского Востока и Запада (от новозаветного периода вплоть до 60—70-х гг. XX века), а также истории взаимоотношений этих традиций. Автор скрупулезно исследует аутентичные черты православного, католического и протестантского учений о таинствах в их развитии, уделяя особое внимание взаимным влияниям, которые указанные учения испытывали в силу различных исторических и иных перипетий.
Для всех интересующихся историей христианской традиции и богословием, в особенности богословием таинств.
2) пассивный: освященное;
3) само действие освящения[191].
Тертуллиан, перенеся понятие sacramentum на крещение и евхаристию, невольно перенес в область священного светское значение этого слова и положил тем самым начало смещению смысловых акцентов в понимании этих таинств. Светское значение слова sacramentum было очень сильным, последствия чего мы ощущаем и сегодня.
В этом значении латинское sacramentum означало денежную сумму, которую стороны судебной тяжбы должны были вносить в качестве залога и полагать в храме, причем проигравшая сторона теряла свой залог. Но гораздо более существенным было другое светское значение этого слова: клятва, присяга солдата, клятва сторон или партий при заключении договора.
Это второе значение слова sacramentum Тертуллиан перенес прежде всего на крещение[192], специально отметив аналогию с солдатской присягой. Действительно, параллель была прямой и явной, ибо военная присяга приносилась кесарю как божеству, как «господу» (κύριος)[193]. Причем эта присяга подтверждалась и увековечивалась каким-то внешним знаком (signum, signaculum), например татуировкой[194]. Этой аналогией Тертуллиан пытался с предельной точностью обозначить вступление христианина в «воинство Христово», ознаменованное Богом в крещении. Он осмыслил светское значение sacramentum – «печать веры или верности» (sacramentum fidei) – как «печать воинства» (sacramentum militiae)[195]. В других местах Тертуллиан называл крещение договором (pactus) между Богом и человеком, используя то значение sacramentum, которое указывает на клятву, приносимую, согласно римскому праву, при заключении договора[196].
Но Тертуллиан употреблял слово sacramentum и в его сакральном значении – тайна (т. е. в смысле μυστήριον)[197]. Прежде всего это относится к тем случаям, когда он говорил о крещении или евхаристии: таинство воды, таинство евхаристии, таинство хлеба и чаши – sacramentum aquae, eucharistiae, panis et calicis[198].
В словоупотреблении Тертуллиана sacramentum – это и освящающее начало, и инструмент освящения, и результат освящения – освященное.
После того как уже Ориген (и не он один), исходя из неоплатонических представлений, заложил основу в понимании таинства как знака, хотя и тайного, Августин (также испытавший влияние философии неоплатонизма) еще более сосредоточил внимание на видимом знаке. При этом он исходил из воззрения, что в мире все может быть знаком[199]. «Знак есть та вещь, которая, обладая чувственно данным выражением, по своей природе находится в ряду других идей»[200].
Невидимый Бог на протяжении истории спасения человека постоянно открывает Себя человеку заново (в видимых знаках). Видимые знаки (signa)указывают на подобную им Божественную действительность (res). «Знаки, распространяющиеся на Божественные дела (res), называются таинствами»[201]. Совсем в русле неоплатонической мысли у Августина видимому знаку соответствует невидимая действительность, т. е. в таинстве (sacramentum) видится одно, а понимается под ним другое[202].
К этим знакам , актуализирующим Божественное, относится, согласно Августину, и евхаристия , Она в равной степени имеет как символически указующий, так и изображающий характер, что означает: евхаристия не тождественна тому Божественному, на которое она указывает. (С этим рассуждением можно сравнить высказывания Карла Адама в его исследовании «Учение о евхаристии святого Августина»[203].)
То же самое можно сказать и о евхаристии как о жертве Христовой. Ибо то, что люди называют жертвой (sacrificium), для Августина есть знак истинной жертвы[204]. При этом он употребляет понятие sacramentum как производное от слова «жертва» (sacrum): «Итак, видимая жертва есть таинство (sacramentum) невидимой жертвы, т. е. ее священный знак» [205]. Характерная черта таинства (sacramentum) – его подобие в качестве видимого знака невидимым вещам, которые он обозначает; «ибо если бы таинства (sacramenta) не были сходны с вещами, знаками которых они являются, они вообще не были бы таинствами (sacramenta)» [206].
Но как соотнести это «подобие», которое обусловливает нетождественность, с реальным присутствием Христа в таинстве (sacramentum)? Карл Адам отвечает: «Освящение силою Святого Духа создает новое онтологическое содержание (valor) хлеба, которое включает в себя, по Августину, особый способ актуализации жертвенной смерти Христа. Это новое бытие: ведь для своего создания оно нуждалось во внешнем акте освящения и внутреннем действии Святого Духа . Но это есть бытие, которое в принципе имеет только указующий, прообразующий характер, и потому оно лишь фигуративно подобно, а не тождественно реальному бытию Христа и Его жертвенному акту. Будучи чувственным бытием, оно располагается между небытием и реальным бытием – в точности, как чувственные вещи у Платона, которые в противоположность подлинному бытию “в себе” и “для себя” имеют бытие “для другого” и “посредством другого” существуют в отношении к другому и ради Другого» [207].
Каким образом могло бы получить это определение одновременно и реальное (хотя при этом полностью не отождествляемое с неизменяемой единичной сущностью – «вещью», res – Тела Христова), и фигуративное бытие – об этом Августин ничего не говорит. Карл Адам усматривает в этом некоторую слабость спекулятивных воззрений Августина на евхаристию[208].
Адам прав, когда отмечает здесь слабое место, и это как раз тот пункт, по которому впоследствии произошел разрыв между восточным и западным мышлением. Пока развитие понимания таинства не выходило за рамки первоначальной (т. е. греческой) системы соотношения первообраза и его отображения, было ясно, что первообраз актуально присутствует в своем отображении, хотя и прикровенно. Больше об этом сказать ничего нельзя, и именно поэтому было введено понятие тайны, таинства (mysterium). Но на Западе, где старое латинское представление об образе только как о подобии первообразу (similitudo) снова стало господствующим, внутреннее соотношение первообраза и его отображения было разрушено, и потому оказалось необходимым со всей резкостью поставить вопрос о реальности присутствия Христа в таинстве (sacramentum) [209].
Однако сам Августин не затрагивал этот вопрос. Он вполне довольствовался объяснением того, как можно приложить схему «первообраз – отображение» к понятию таинства (sacramentum).
Видимый знак таинства (вода, елей, хлеб и вино) не содержит в себе той действительности, которую несет в себе обозначаемая им и скрыто, невидимо подаваемая благодать . Августин поставил вопрос о действительности крещения и сам ответил на него: «Убери слово, и что тогда есть вода сама по себе? Слово касается стихии, и она становится таинством (sacramentum), а таинство (sacramentum), в свою очередь, – как бы видимым словом» [210]. Только связь видимого знака с Божественным словом делает знак видимым словом Божьим и, тем самым, – действительным.
Но и тогда сила таинства (virtus sacramenti) не одинаково действует на различных воспринимающих таинство людей. На примере манны, которая Богом была дана евреям в пустыне на пропитание, Августин показывает, что Божественный дар действует различно – сообразно жизненным целям воспринимающего. Одним она служит к жизни, другим – к смерти. Поэтому Августин проводит различие между таинством (sacramentum) как таковым и силой таинства (virtus sacramenti): «Ибо и мы сегодня принимаем видимую пищу, но одно есть таинство (sacramentum), другое – сила таинства»[211].
В. Соотношение понятий μυστηριον и sacramentum
Высказывания Августина имеют в этой связи особое значение, так как начатое Тертуллианом (и совершенно типичное для западного мышления) смещение акцента с тайны на внешний знак получило у Августина теоретическое обоснование. Со всей отчетливостью это стало видно впоследствии – при разработке западного учения о таинствах, в основу которого легли тексты Августина! Хотя понятия sacramentum и μυστήριον обозначали один и тот же предмет, понимание этого предмета на Востоке и на Западе разнилось все более. Когда же на Западе sacramentum впервые стало употребляться не в качестве синонима μυστήριον, этот разрыв в понимании получил и свое ясное дефинитное выражение.
Однако было бы неверным полагать, что до этого момента развитие понятия на Западе и на Востоке протекало параллельно. Как в свое время Августин, западные церкви в течение столетий употребляли понятие sacramentum в двойном значении: «святого знака» и синонима μυστήριον. Смещение акцента в сторону знакового и вещественного в западном понимании таинств происходило не повсеместно. У Исидора Севильского (VI —VII вв.) чаша весов опять склонилась в сторону таинственного характера таинств: Исидор видит в них таинственное освящающее действие Святого Духа, скрытое под видимым покровом материальных предметов[212]. Тем самым он вновь совершенно сознательно приблизил латинское понятие sacramentum к греческому μυστήριον [213]. Если учитывать эту двоякость в употреблении понятия sacramentum, то не покажется удивительным, что Исидор в своем определении таинств ссылается опять же на тексты Августина!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Таинства в истории отношений между Востоком и Западом"
Книги похожие на "Таинства в истории отношений между Востоком и Западом" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом"
Отзывы читателей о книге "Таинства в истории отношений между Востоком и Западом", комментарии и мнения людей о произведении.