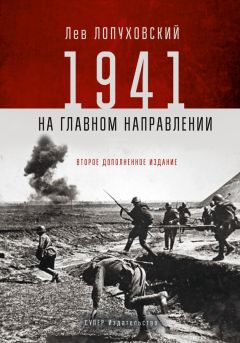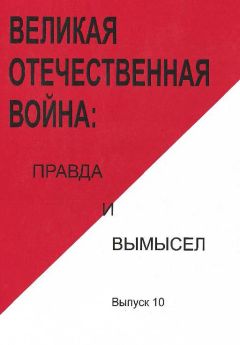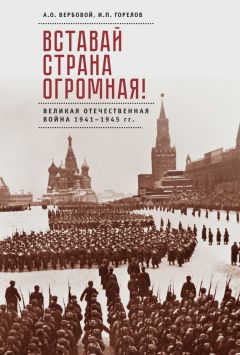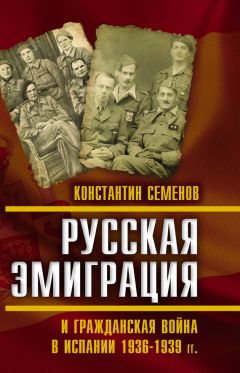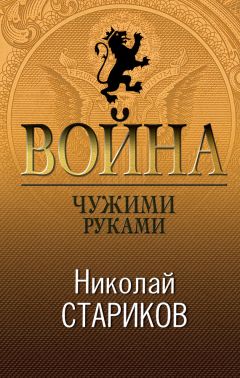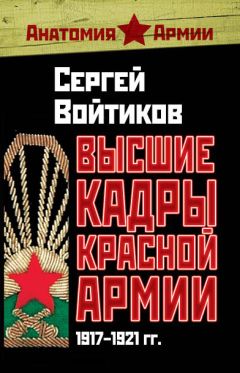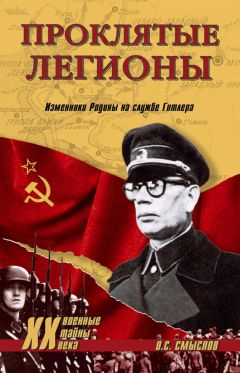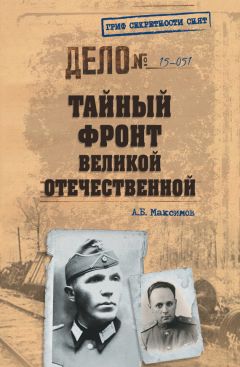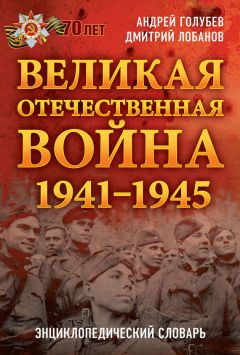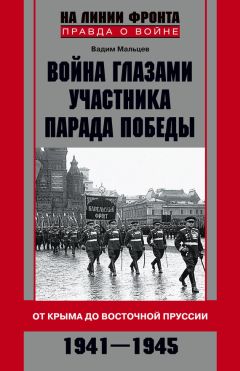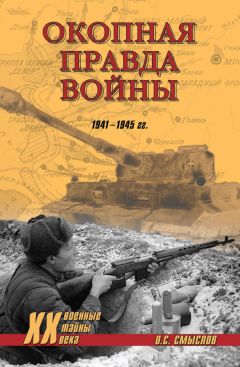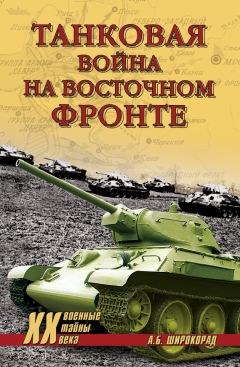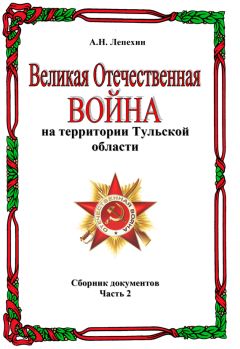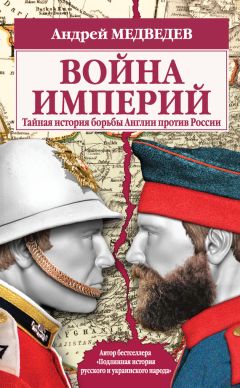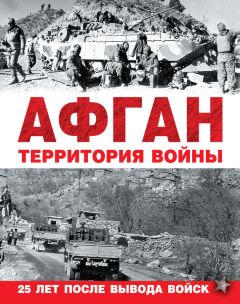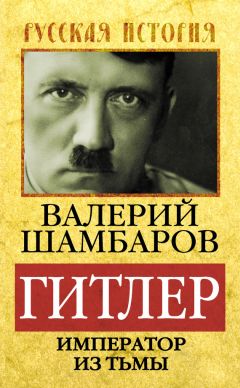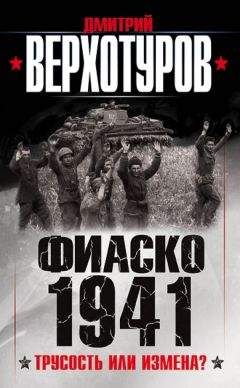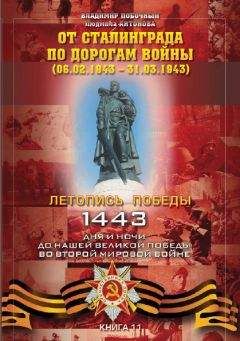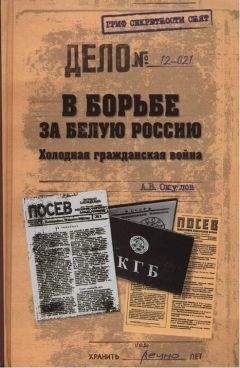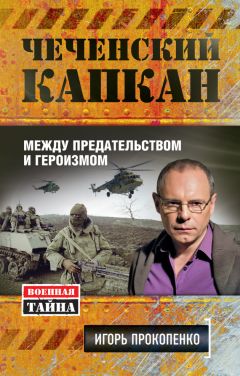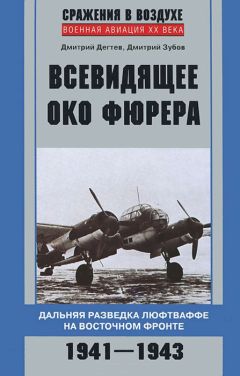Олег Смыслов - Окопная правда войны. О чем принято молчать
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Окопная правда войны. О чем принято молчать"
Описание и краткое содержание "Окопная правда войны. О чем принято молчать" читать бесплатно онлайн.
«Война – это живая, человеческая поступь навстречу врагу, навстречу смерти, навстречу вечности. Это человеческая кровь на снегу… Это брошенные до весны солдатские трупы… Это постоянный голод, когда до солдата в роту доходит вместо пищи подсоленная водица, замешанная на горсти муки, в виде бледной баланды. Это холод на морозе и снегу, в каменных подвалах, когда ото льда и изморози застывает живое вещество в позвонках. Это нечеловеческие условия… на передовой, под градом осколков и пуль. Война – это как раз то, о чем не говорят, потому что не знают…» Эти слова участника тяжелейших боев на Калининском фронте в 1941–1943 гг. гвардии капитана А. Шумилина могут стать эпиграфом к книге О. Смыслова, рассказывающей о той правде прошедшей войны, о которой и до сих пор молчат историки, журналисты и писатели.
Книга выходила ранее в другой серии.
«Характерными особенностями наступательных действий русской армии в период 1943–1945 гг. являлись массирование войск на узких участках, большой расход снарядов и мин, а также стремление вклиниться в оборонительную позицию, следуя непосредственно за разрывами снарядов своей артиллерии, – писал генерал Эйке Миддельдорф. – В конце войны русские значительно усовершенствовали методы ведения наступательных действий и поразительно быстро сделали их достоянием войск».
Но почему-то и в 1944-м разведку боем в Красной Армии называли по-прежнему «разведкой жизнью».
«Потому что перед настоящей разведкой боем надо сначала как следует обработать передний край противника артиллерией. А у нас додумались – без всякой подготовки. Те подпускают вплотную, обратно никто не возвращается. На глазах у меня убивало по роте… Все лежат белые, как гуси-лебеди, в масхалатах, никто не шевельнется», – свидетельствовал М.И. Сукнев.
А мне вспомнились слова Виктора Астафьева из его романа «Прокляты и убиты»: «Господи! – думал я, глядя на остров, на тухлые воды, покрывшие древнюю реку. – Уж не сослуживцы ли мои, не братики ли солдатики из двадцать первого полка выходят ногами из мутных вод, покрывших ранние их безвестные могилы, и напоминают о себе и о своей доле таким вот странным, лешачьим образом, спасенным от фашизма гражданам родного отечества, забывшим и себя и нас, все святое на этой земле поругавшим».
3. Солдатская доля, или О вытянувших всю войну
34 млн 476,7 тыс. человек надевали шинели в течение всей войны…
21,7 млн человек (призывавшихся или состоящих на военной службе) по различным причинам убыли за годы войны из рядов Красной Армии и Флота…
Безвозвратные потери (убиты, умерли, пропали без вести, попали в плен, не боевые потери) рядового и сержантского состава за войну составили 10 384 869 человек, или 92,02 %…
Санитарные потери (ранены, контужены, обожжены, заболели, обморожены и т. д) рядового и сержантского состава составили 16 969 837, или 92,51 %…
О чем говорят эти безумно страшные цифры (тем более, если они не точные)?
Прежде всего о кровавой трагедии, развернувшейся на полях сражений Великой Отечественной войны! О неисчислимых жертвах, великом горе, миллионах слез матерей и вдов! А еще о солдатской доле, которую сотворила война своим диким безумием!
Война насильно ворвалась в каждую их жизнь, чтобы забрать ее или остаться в ней навсегда!
Солдаты Великой Отечественной войны. Сколько написано о них книг, сколько посвящено стихов и песен, сколько сказано, а все равно не все.
Тогда на фронте они были самыми беззащитными, самыми неизвестными, самыми смертными. Ведь скольких еще не нашли, не перезахоронили, не наградили. А сколько их остаются до сих пор без вести пропавшими.
«Скажу о себе, – абсолютно искренне писал о солдате Виктор Некрасов. – Я был офицером Красной Армии и до сих пор питаю к ней любовь и уважение. Более того, она для меня родная. Нет ничего ближе для меня, чем мой друг – фронтовик, чем Ванька – взводный, чем красноармеец, боец, “колышек”, как называли мы его на своем идиотском телефонном коде. Солдат! (Первое время после введения этого старорежимного термина мы относились к нему иронически, как к погонам, – “Эй, солдат, иди сюда!” – это несерьезно, шутливо.) Солдат! Как много в этом слове. И смелость, и добродушие, и хитрость, и любовь к жизни, и презрение к смерти, и желание обмануть ее, а заодно и тебя, свое начальство, и само отношение к начальству, человеку городскому, пусть образованному, но не умеющему отличать рожь от пшеницы (я, во всяком случае), и отношение к врагу, немцу, “фрицу” – непонятному и злому, когда он в своих окопах или в кабине “мессера”, и жалкому, вызывающему сострадание пленному, в обнимку со своим набитым черт знает чем сидором, сидящему у костра на берегу Волги…
Родной ты мой “березовый колышек” (в отличие от “горелого”, не в обиду ему будет сказано, не понимающего по-русски узбека или казаха). Я навеки полюбил тебя, деревенского парнишку в нелепо торчащей на голове пилотке или серой ушанке в майскую жару (во время харьковского наступления 42-го г. мы все были в ушанках, а до того в лютую зиму, в запасном батальоне, под Сталинградам, обмундирование было х/б – хлопчатобумажное – и ни признака белья), в ботинках на два номера больше и вечно разматывающихся обмотках, ленивого, всегда голодного и “не перекурить ли нам этого дела, товарищ капитан?”, а в общем-то, вытянувшего всю войну и водрузившего знамя (я знал потом обоих – и Егорова, и Кантарию – хитрые мужички) на самом Рейхстаге. Ну как тебя не полюбить, защитничка нашего, победителя?»
Русский писатель Б.Л. Васильев чудом вышел мальчишкой из окружения в октябре 1941-го под станцией Глинка. Потом в его солдатской жизни была пулеметная школа. В ней старшего сержанта Васильева оставили как отличника и назначили заместителем командира учебного взвода.
«Мне нравилась моя служба. В армию приходили взрослые мужчины из запаса, я рассказывал им о немецкой армии, о ее способах ведения боя. Я не занимался с ними строевой подготовкой, поскольку на фронте она не нужна, но без всякой пощады гонял их в двадцатикилометровые кроссы по пересеченной местности. Уж что-то, а бегать на фронте им придется немало.
А еще я рассказывал им, что нельзя хранить взрыватели в нагрудных карманах, нельзя пить перед боем – ни глотка! – если они хотят остаться в живых и что в атаке нельзя расходовать всю обойму, поскольку на перезарядку времени не будет, а с немцем в рукопашную один на один может пойти только ненормальный.
– Это понятно! – гоготали мои мужики. – Они, поди, не одной картошечкой с детства кормлены», – вспоминает Борис Львович.
Однако, несмотря на некоторое благополучие, он писал рапорты с просьбой отправить на фронт, потому что доходил на третьей норме…
Да только случай помог попасть в резерв сержантского состава Западного фронта.
«В Москве, в знаменитых Алешинских казармах свирепствовала страшная дисциплина. Нас никуда не пускали, день был расписан по минутам, построения следовали за построениями, а за нарушения – гауптвахта. И кормили еще хуже, чем в полковой школе…»
Правда, через три дня все закончилось, и старшего сержанта Васильева распределили в 8-й Гвардейский воздушно-десантный полк 3-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Слово Б.Л. Васильеву: «В восемь утра я прибыл в Монино. Спросил у патруля, как мне пройти в штаб полка, притопал по указанному адресу, объяснил дежурному, что направлен к ним в полк, и был допущен к самому исполняющему обязанности командира полка майору Царскому.
В большой захламленной и невероятно прокуренной комнате – бывшей учительской, поскольку штаб располагался в школе, – сидело и лежало десятка два людей самого растерзанного вида. Офицеры и сержанты были одинаково тяжелы с беспробудного похмелья, на столе среди объедков хлеба, колбасы, соленых огурцов и капусты валялись пустые бутылки. Я доложил по всей форме здоровенному одесскому биндюжнику в распахнутой в настежь гимнастерке со Звездой Героя, кто я, откуда и зачем прибыл.
– Пехота?
– Так точно!
Так я сам себя определил в пехоту, а посему был, с точки зрения десантного командования, обязан заниматься караулами, разводами, построениями, ночными поверками часовых – словом, всей пехотной суетой. Мне это было привычно, караульную службу я знал, а об уставах и говорить не приходится. Впрочем, о них никто не вспоминал. Полк только приступал к формировке на основе чудом выживших из боевого сбора десантников, которым пока еще было не до того, чтобы заниматься поступившим пополнением. Они еще переживали чудо собственного спасения, горячку скоротечных боев и гибель товарищей. Я их понимал, выполнял всю повседневную рутинную текучку строевой жизни, но как же я им завидовал! И так мечтал попасть в их окружение на любые роли. Даже на роль “выпить подано”. Льготы были почти безгрешными: я просто хотел послушать их рассказы, еще не понимая, что десантники, побывавшие в боевых сбросах, больше всего на свете не любят рассказов о том, что с ними случалось по ту сторону фронта».
Вскоре Борису Львовичу выдали очень хороший ватный комбинезон, стали прибывать кандидаты в десантники, и полк приступил наконец-то к «ежедневной и весьма жесткой программе подготовки завтрашней воздушной пехоты». Начались прыжки.
Далее Бориса Львович вспоминает: «Мы совершили по шесть прыжков, в том числе четыре с полным снаряжением и два – ночных. (…) Все шло удачно. Я удачно приземлился, удачно гасил парашют, удачно скатывал его и волок к месту сбора. И так шло до первой половины марта.
16 марта 1943 г. наш взвод поднялся по тревоге, когда было еще темно. В оружейной комнате выдали снаряжение из запечатанных отсеков, и мы поняли, что сброс будет боевым. Это знали и бывалые оружейники. Помогая каждому подогнать одежду и оружие, они после обязательного приказа “попрыгать” молча клали руку на плечо.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Окопная правда войны. О чем принято молчать"
Книги похожие на "Окопная правда войны. О чем принято молчать" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Олег Смыслов - Окопная правда войны. О чем принято молчать"
Отзывы читателей о книге "Окопная правда войны. О чем принято молчать", комментарии и мнения людей о произведении.