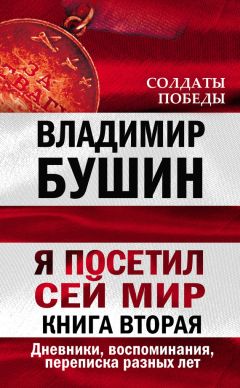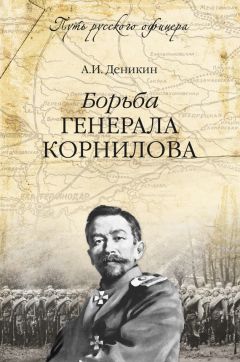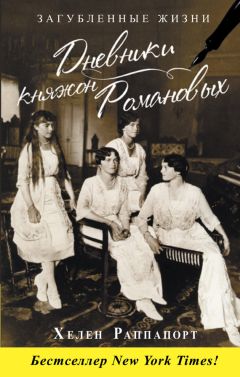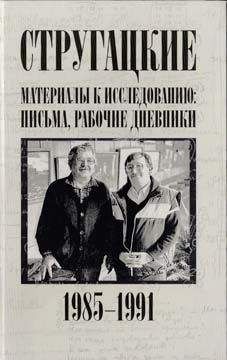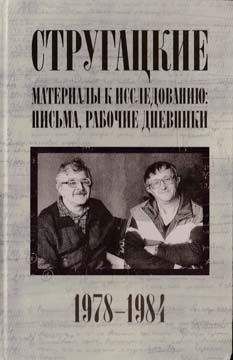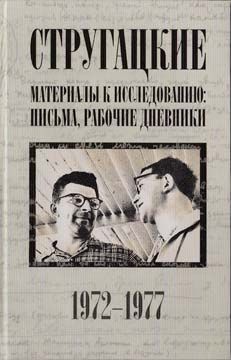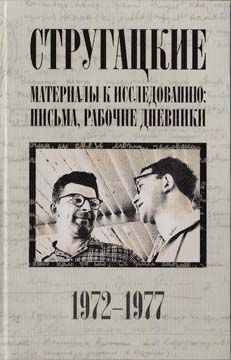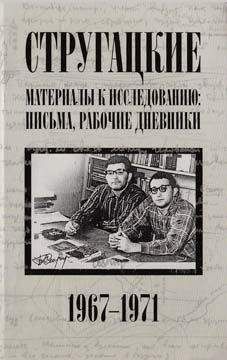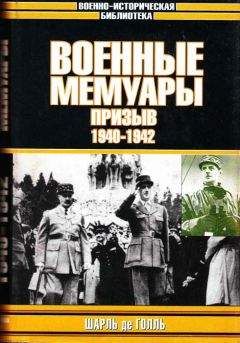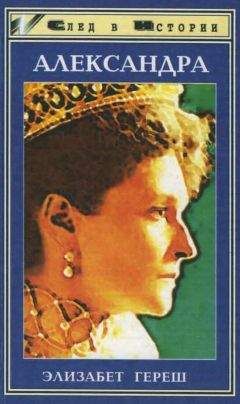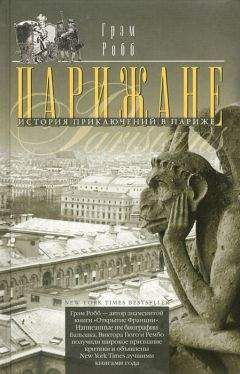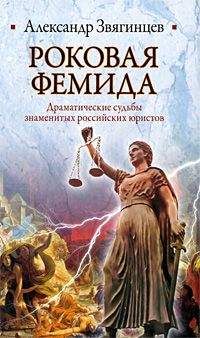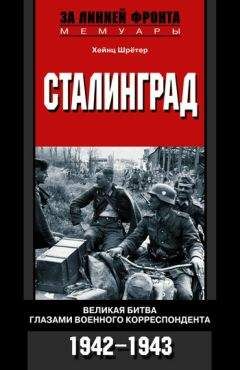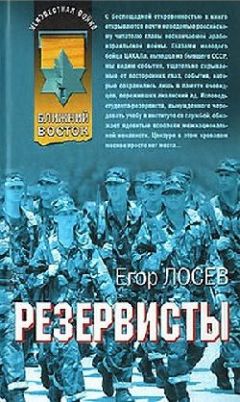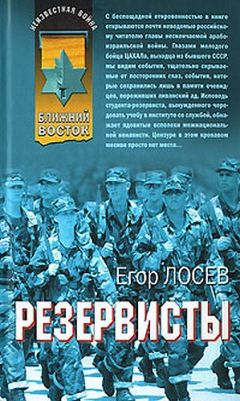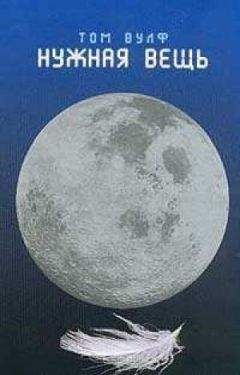Хелен Раппапорт - Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев
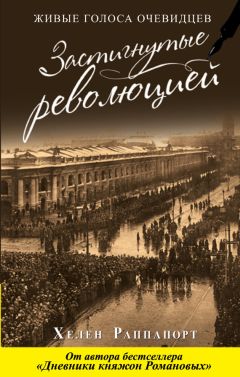
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев"
Описание и краткое содержание "Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев" читать бесплатно онлайн.
Новая книга от автора бестселлера «Дневники княжон Романовых» Хелен Раппапорт, основанная на редчайших, забытых или считавшихся утерянными архивных материалах, переносит читателя в Петроград 1917 года, переживающий самые драматические моменты своей истории. Мастерски воссоздавая дух эпохи, автор показывает те события глазами их участников (часто – невольных) и очевидцев, давая возможность в полном смысле пережить их заново.
В ходе повествования читатель из роскошных дворцовых залов и с посольских приемов попадет на питерские улицы и площади, из театров и ресторанов – в мрачные подворотни и дворы. Его спутниками будут аристократы и дипломаты, журналисты и военные, горничные и медсестры, рабочие и клерки, революционные матросы и иностранные офицеры. Их повседневная жизнь, их заботы и праздники, их мысли и чувства стали основным содержанием книги, а политические потрясения послужили лишь драматичным фоном для них, что делает работу Раппапорт поистине ценной и уникальной.
Каждый из героев книги видел свой кусочек революции, каждый по-своему оценивал события. Сведя все эти драгоценные свидетельства в единую картину, Хелен Раппапорт сумела создать лучший репортаж из прошлого, который только можно придумать.
В то время как Дороти Сеймур была заинтересована в том, чтобы остаться и наблюдать за дальнейшим развитием событий, в другом районе Петрограда другие британские граждане, такие как медсестры Лилиас Грант и Этель Мойр, отчаянно пытались выбраться домой. Британский консул Артур Вудхаус, чья канцелярия находилась на Театральной площади возле Мариинского театра, с самого начала войны был чрезвычайно занят, помогая британским подданным, оказавшимся в затруднительном положении на просторах России, от Балтики до Урала, вернуться на родину. «Масса людей желала поехать домой, с учетом беженцев с территорий, захваченных немцами, это вскоре превратилось в бурный поток», – вспоминала его дочь Элла. Она отмечала, что многие из них «в начавшемся хаосе потеряли свою работу, как, например, сотни гувернанток, состоявших ранее в услужении у состоятельных семей по всей стране… Проведя нескольких лет за границей, эти несчастные женщины теперь возвращались на свою родину, причем у многих из них не было дома, куда можно было бы вернуться». Это было печальное зрелище; «многие из них приходили все в слезах, поэтому мы называли их классом Б.Б.Б. (беспомощных, безнадежных, бесправных)»{116}.
Дипломатический корпус, в условиях роста объема работы и предсказаний неизбежных социальных потрясений, продолжал свою деятельность. Первый день российского Нового года (в этот день стояла сильная стужа) ознаменовался блистательным приемом восьмидесяти представителей дипломатического корпуса в зале Екатерининского дворца в Царском Селе. В то время как посол США Дэвид Фрэнсис (наряду с другими девятью сотрудниками своего посольства) пренебрег официальной дипломатической атрибутикой: бриджами, обувью с пряжками и шляпой с плюмажем, отдав предпочтение фраку и воротнику-стойке, остальная часть дипломатического сообщества прибыла при полном параде, на «роскошном» поезде специального назначения, который был предоставлен дипломатам{117}. С него они перегрузились в сани с меховой полостью и помчались на них сквозь круживший снег, мимо замерзших деревьев парка, под звон бубенцов. По мнению американского дипломата Нормана Армора, для того чтобы добиться полного сходства с классическим русским сценарием, не хватало лишь «воя волков»{118}. «Перед нами предстала заколдованная страна, полная чудес, – писал французский дипломат Шарль де Шамбрюн. – Изысканно украшенный фасад дворца ждал гостей, подсвеченный тысячью огней в полукружье снежной белизны». Тем не менее он (как и многие его коллеги-дипломаты) задался вопросом: «После всего того, что произошло, и всего того, что говорили, и с учетом всего того, что надвигалось на нас, как мы должны были относиться к хозяину всего этого великолепия?»{119}
«Избавившись от несметного количества верхней одежды», собравшиеся дипломаты дождались, когда двойные двери гостиной в красном цвете с позолотой распахнулись двумя высокими привратниками-эфиопами в чалмах, и их «ввели в самый величественный зал, который я когда-либо видел, с бесконечными золотыми зеркалами и бесчисленными электрическими огнями», как вспоминал Дж. Батлер Райт. Затем они были в порядке старшинства организованы в группы, расположившиеся за своим «дуайеном» сэром Джорджем Бьюкененом и его сотрудниками, и в зал вошел император Николай II, одетый в простую серую казацкую черкеску, чтобы поприветствовать их. В течение двухчасового приема он доброжелательно, с присущей ему улыбкой и рукопожатиями, беседовал на превосходном английском и французском языках. «Он спросил меня, как долго я нахожусь в России, как мне здесь нравится, не страдаю ли я от холода, и пообещал, что летом будет прекрасная погода», – вспоминал Райт{120}. Император Николай был мастером подобных пустых любезностей; он почувствовал себя явно некомфортно, когда сэр Джордж Бьюкенен воспользовался возможностью, чтобы попытаться убедить его в «необходимости решительного наступления на Восточном фронте, чтобы снизить давление немецких войск на Западном». По оценке Нормана Армора, это был неуместный шаг со стороны британского посла в ходе такого чисто светского мероприятия: «Я видел, как император мял свою каракулевую шапку, выдавая раздражение, нарастающее по мере продолжения речи Бьюкенена»{121}.
Во всех остальных случаях реакция императора во время бесед была вполне обыденной, его взгляд – доброжелательным, но пустым. По мнению Шарля де Шамбрюна, было ясно, что он «не проявлял большого интереса к ответам своих собеседников»{122}. Посол Дэвид Фрэнсис, плененный внешним очарованием императора, не смог заметить его изнеможения: «Мы все были поражены радушием Его Величества, его выдержкой и его несомненным отличным физическим состоянием, а также живостью его высказываний», – отметил он в своем дневнике. По его мнению, император «предоставил возможность убедиться, что он вполне уверен в себе», причем до такой степени, что американский посол был рад выйти «покурить» с военно-морским атташе США Ньютоном Маккалли, с которым он предпочел говорить о «свержении Порфирио Диаса[32] в Мексике», а не о ситуации в России{123}. Однако Райт, как его коллега Армор, полагал, что император Николай «казался очень нервным, его руки постоянно ерзали». Французский посол Палеолог был с этим согласен: «бледное тонкое лицо» Николая «выдавало сокровенную суть его тайных мыслей»{124}.
В целом, это было впечатляющее мероприятие, многие участники которого в последующем описывали его в своих воспоминаниях, включая Дэвида Фрэнсиса, который охарактеризовал его как «блеск и великолепие умирающей эпохи»{125}. «Вряд ли кто-либо из нас осознавал, что мы являлись свидетелями последнего публичного появления последнего правителя могущественной династии Романовых», – напишет он позже в своих мемуарах; император, казалось, не имел ни малейшего представления о том, что «он находится на краю вулкана»{126}. У Шарля де Шамбрюна сложилось впечатление, что император Николай «был больше похож на какой-то автомат, требующий подзаводки, чем на самодержца, способного подавить любое сопротивление»{127}. Посол Палеолог также выявил признаки утомления и предчувствия беды: «Во всем блестящем и сверкающем царском зале не было ни одного лица, которое не выражало бы беспокойства». Насладившись хересом и сэндвичами и «щедро, не скупясь» дав на чай прислуге, дипломатический корпус отправился обратно в Петроград{128}. Спустя несколько часов Райт пил водку и объедался икрой и другими деликатесами в квартире Армора на Литейном, празднуя Новый год. В последующие дни Райт наслаждался поездками в переполненный Мариинский театр, где он вместе с Мэриэл Бьюкенен смотрел балет Чайковского «Евгений Онегин», бриджем с княгиней Чавчавадзе («достаточно блестящая компания»), ужином в «Кафе де Пари» и катанием на коньках в элитном частном клубе, где представителям дипломатического корпуса «всегда были открыты все двери»{129}. На краю вулкана стоял не только русский царь – это относилось и к бо́льшей части дипломатического корпуса, и к ослепшему сибаритствующему российскому высшему обществу.
Через восемь дней после приема у царя высокопоставленная делегация союзников (британцев, французов и итальянцев) во главе с лордом Мильнером, видным членом военного кабинета Дэвида Ллойда Джорджа, прибыла в Петроград на крупную конференцию, призванную укрепить продолжавшееся сотрудничество с Россией и предотвратить ее выход из войны. Иностранная диаспора выразила надежду на обязательный банкет за казенный счет, который ожидался в честь такого визита, но в день прибытия делегации в столицу 150 000 рабочих вышли на забастовку и организовали шествие в память о массовом убийстве мирных демонстрантов, произошедшем в этот день двенадцать лет назад. Угнетенный рабочий класс Петрограда никогда не забывал о «Кровавом воскресенье» 1905 года. Напряженность в столице росла.
Царский бюрократический аппарат, однако, был больше озабочен размещением гостей в связи с острой нехваткой жилья в Петрограде, которая только обострилась с приездом делегации. На время забрали номера у постояльцев первого этажа переполненной гостиницы «Европейская», однако обнаружилось, что «их некуда переселять и что невозможно найти мест ни за какую цену»{130}. Помпезные официальные банкеты продолжались три недели, вызвав у уставшей столицы некоторый подъем духа. «На какое-то время можно было представить себя в предвоенном Санкт-Петербурге», – вспоминала Мэриэл Бьюкенен. Она оставила одно из наиболее ярких описаний блистательного светского водоворота: «Внезапно город охватило веселье. По улицам проносились экипажи двора с красивыми ухоженными лошадьми и императорскими ливреями малинового и золотого цветов. Перед гостиницей «Европейская», в которой разместились участники делегации, в любое время суток стояла бесконечная вереница автомобилей. Каждую ночь устраивались ужины и танцы, большая царская ложа во время балета была заполнена французскими, английскими и итальянскими мундирами»{131}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев"
Книги похожие на "Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Хелен Раппапорт - Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев"
Отзывы читателей о книге "Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев", комментарии и мнения людей о произведении.