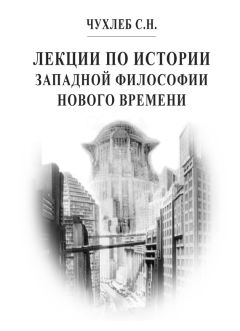Евгений Рашковский - Философия поэзии, поэзия философии
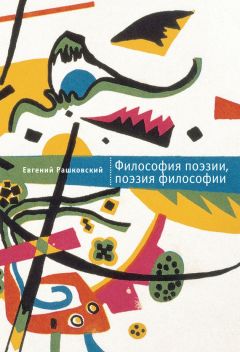
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Философия поэзии, поэзия философии"
Описание и краткое содержание "Философия поэзии, поэзия философии" читать бесплатно онлайн.
Название книги неслучайно. Философия и поэзия – два сродных, но притом специфических, одно в другое без остатка не разменивающихся, поля человеческого воображения и словесного творчества. Об их содержательных различиях – концептуальности философии и спонтанной образности поэзии – написано немало. Немало будет сообщено читателю и на страницах этой книги.
Но важно вот еще что: спорящие, непримиримые, непримиренные тенденции социальности, истории и культуры подчас, хотя и редко, но всё же могут понять друг друга и выйти с пониманием и почтением друг другу навстречу, – как это случилось между Авраамом-Степняком (Аврам ха-Иври)[209] и Мелхиседеком, царем-жрецом Шалема, священником Бога Вышнего (коэн ле-Эль Эльон)[210], что вышел навстречу Аврааму, благословив его хлебом и вином и приняв его дары. И такие редкие моменты освещают собой века и века социальной и культурной истории[211].
Народы и империи
Еще раз повторяю: еврейский народ, чье осознанное сложение можно условно отнести к XIII в. до н. э., т. е. ко времени круговой войны Рамсесидов против окружающих народов – весьма поздний гость на культурноисторическом «пире» древнего Ближнего Востока. И что поразительно: едва ли не самая ранняя из исторически фиксированных вестей об этом народе (стела фараона Меренптаха, царствовавшего в 1234–1220 гг. до н. э.) сообщает о том, что еврейский вопрос решен окончательно и бесповоротно (привожу фрагмент стелы Меренптаха в поэтическом переложении прот. Александра Меня):
Враги повергнуты и просят пощады,
Ливия опустошена, Хета присмирела,
Ханаан пленен со всем своим злом,
Захвачен Аскалон, Гезер полонен,
Племя Израиля обезлюдело, семени его больше не стало,
Сирия осталась вдовой для Египта,
Все земли успокоились в мире,
Скован всякий бродяга царем Меренптахом[212].
Может быть, мои слова об «окончательном решении» – некоторая модернизация. Но факт остается фактом: от самых времен Меренптаха угроза истребления или, по крайней мере, «этнических чисток» оказалась одной из констант истории еврейского народа.
Но вопреки всем «окончательным решениям» (Ассирия, Нововавилонское царство, Селевкиды[213] и т. д.), израильский народ, вобравший в себя разнообразные расовые, этнокультурные и религиозные потоки и сумевший в ходе тысячелетий сохранить осознанную преемственность своей духовной и словесной, а через нее и этнической истории, имел нелегкую, но уникальную возможность обобщить опыт наблюдений над судьбами множества народов, регионов и царств, над возвышениями, завоеваниями и упадком, над социальными и экологическими катастрофами. И что еще более любопытно – все эти нелицеприятные наблюдения творцов ветхозаветной историографии касались не только соседей Израиля, но и превратностей его собственной судьбы. Более того, подчас саморазоблачения, самоугрызения Израиля, самого себя судившего в свете абсолютной нормы Откровения, – выглядят несравненно более жестокими и горькими, нежели критика в адрес иных народов и царств[214].
Так, Книга Исайи начинается с жесточайших инвектив против собственной страны, собственного народа: государство, народное благополучие, даже сами ландшафты рушатся вместе с упадком нравов. Тем самым упадком, который люди слепо компенсируют обрядовым благочестием [215]:
Князи твои – отступники да ворам сотоварищи (ве-хаврей ганнавим), все они – взяток любители да за мздою охотники…[216]
* * *Историки, филологи, философы, богословы солидарны в том, что обостренное, на монотеистическом видении утвержденное историческое сознание (творение – падение – коллапс первичных цивилизаций – выстраивание будущей истории через последовательность Заветов[217] – жестокая и нередко несправедливая череда исторических событий, требующая от человека перманентной и в каждом поколении возобновляемой закалки верой и самосовершенствованием, – преодоление, спасение и Искупление[218] истории в реальности Будущего века, т. е. Будущего космоса[219]) – уникальный результат ветхозаветной историографии. Можно поражаться ее логичности (и одновременно: тео-, антропо-, социо-логичности), можно упрекать ее в излишней прямолинейности. Но что интересно: векторная, контекстуально единая, но ситуационно разорванная история людей – при всех ее чудесах – вершится в упорядоченном и математически обоснованном (на вавилонский лад обоснованном!) космосе. Описание условного Шестоднева творения – описание законосообразности космического и биологического контекста людской истории. Вот версет, касающийся условного Четвертого дня:
И сказал Бог (Элохам):
Да будут светила на тверди небесной,
чтобы отделять день от ночи,
чтобы были и знамения (ле-отот) и времена (у-ле-моадим)[220],
и дни и годы [221].
Сама история мыслится как непрерывность порождений (толедот – корень: йод-ламед-далет) космоса, людей, семей, народов[222]. За корнем й-л-д стоит кластор понятий, связанных с порождением, преемственностью рождений, чередований, происхождений, родословий. Так что история есть история мipoпорождений, человеко-порождений, народо-порождений[223]. История преемственности отечества и сыновства. История выражает и продолжает себя не только в эстафетах жизнепорождений, но и в эстафетах смерти. «Умереть» – подчас обозначается эвфемизмом «приложиться (асаф) к народу своему», даже когда народа, по сути дела, почти что и нет[224].
Стало быть, история как таковая, по определению связанная с историей народа, продолжается, «порождается» не только в чередах жизни, но и в чередах смерти[225]. А уж позднее – в послепленный период – представление об истории как порождении было сопряжено и с идеей личного бессмертия.
Вокруг Израиля возникали, разлагались и падали народы, царства, империи. И сам Израиль переживал и трибалистскую военную демократию Судей (шофетим)[226], и военно-крестьянские царства, и Соломонов утонченный полуимперский деспотизм X столетия до н. э., и последующие полосы упадка, почти что исчезновения и – возрождения. Грозное пророчество Исайи Первого о близящейся гибели Бодры – столицы близко-родственных евреям эдомитян – имеет прямое отношение к возможным историческим злоключениям самого Израиля:
Колючками зарастут дворцы ее,
крапивой и репьем – твердыни ее,
жильем шакалов станет она,
прибежищем страусов…[227]
Впрочем, для авторов текстов Ветхого Завета, Израиль имеет несказанно трудную, но спасительную альтернативу этой общеориентальной циклике и всераспаду. Это – верность избранному договору-Завету. Верность не только в нравственной области (честность, солидарность в собственном народе, милосердие к иноплеменнику и рабу), но и в сфере религиозно-культурной: исполнение Моисеева Декалога, непрерывная эстафета изучения священных текстов и литургических традиций, красота рецитации и пения, понимание связи богослужения, поэзии и праздника[228]. Это – то самое, что дает силу выносить все ужасы и превратности истории. Опыт бережения и благоговения сквозь превратности времен сообщает истории некоторый запас прочности. Но тогда акцент на этно-физическое родство отходит на второй план, уступая место осознанной духовной преемственности[229]. Не случайно же последующая рефлексия и Евангелия и Талмуда – каждая на свой лад – говорит о легкости духовного бремени перед лицом мipских тягот[230].
«Сквозная сага» малого и, казалось бы, перманентно обреченного народа, сложившегося и осознавшего себя на стыке Евразии и Африки, перерастает в Священную историю человечества – перманентно обреченного, но отыскивающего пути и силы самовосстановления.
…отступление об инцесте…
Тема кровосмешения – одна из центральных в мифологиях и преданиях народов самых различных пространственных и духовно-исторических ареалов человечества: от Эллады до Кореи. Обращает на себя внимание и множество описаний кровосмесительных ситуаций на страницах Ветхозаветного канона. Кровосмесительные эпизоды мы встречаем в жизнеописаниях патриархов, царей, праведников и их родных. Причем нередко эти эпизоды обусловлены не только распущенностью и бескультурьем чувств тех или иных персонажей (Рувим в отношениях с наложницей отца Валлой/Бильхой, сын Давида Амнон в отношениях со своей единокровной сестрой Фамарью/Тамар, родной брат Тамар и единокровный брат Амнона Авессалом/Авшалом в отношениях с наложницами своего отца), но и беспощадной потребностью создать и сохранить потомство в экстремальных жизненных положениях (дочери Лота, аравитянка Фамарь/Тамар в отношениях со своим тестем – патриархом Иудой)…
Земная предыстория страданий праведника Иова начинается с тех «пиров и возлияний» (миштэ), которые устраивали (асу) его сыновья и дочери и за которые отцу приходилось «освящать» их всех, «вставая утром рано» и «вознося всесожжения по числу каждого из них»[231].
Инцестуальные связи и постоянно возобновлявшиеся меры пресечения этих связей были воистину одним из трагических бичей первобытного и архаического человечества. Как указывал знаменитый американский этнолог Лесли Уайт, определение инцеста, запрет на инцест, выстраивание тех или иных принципов экзогамности – тот доселе не избытый болезненный процесс, который позволил древнейшему человечеству создавать системы социальности и культуры, превознося их над чисто биологическим существованием[232]. Или, если вспомнить труды Клода Леви-Стросса и его последователей, определения и запреты инцеста, по-разному формулируемые в разных, столь не похожих друг на друга людских сообществах, всё же составляют необходимый элемент общей грамматики человеческой культуры во всём многообразии конкретных ее проявлений.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Философия поэзии, поэзия философии"
Книги похожие на "Философия поэзии, поэзия философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Рашковский - Философия поэзии, поэзия философии"
Отзывы читателей о книге "Философия поэзии, поэзия философии", комментарии и мнения людей о произведении.