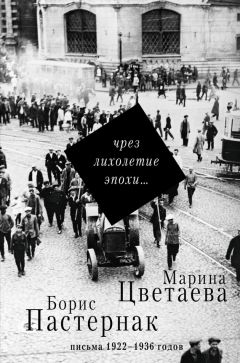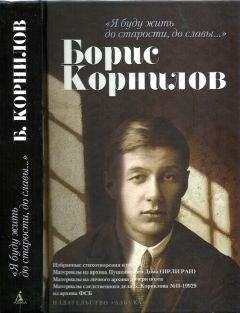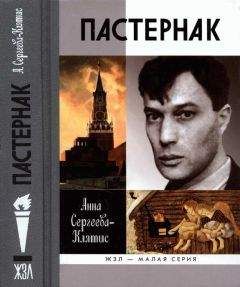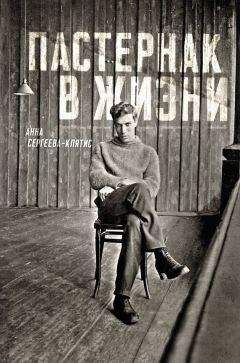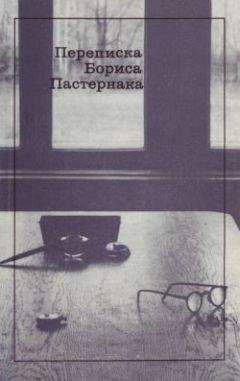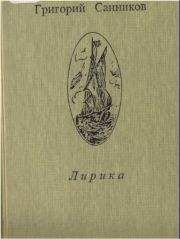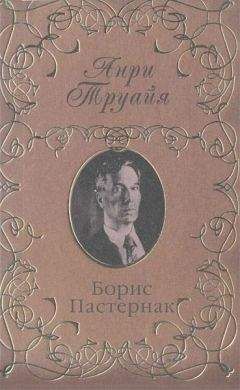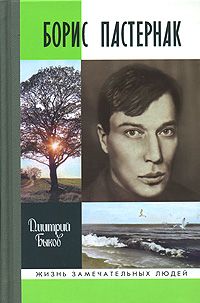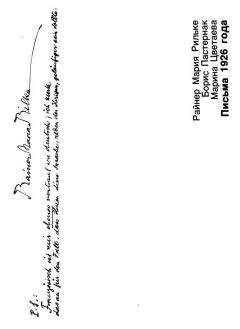Борис Пастернак - «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями"
Описание и краткое содержание "«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями" читать бесплатно онлайн.
Евгения Владимировна Пастернак (Лурье) – художница, первая жена Бориса Пастернака; их переписка началась в 1921-м и длилась до смерти поэта в 1960 году. Письма влюбленных, позже – молодоженов, молодых родителей, расстающихся супругов – и двух равновеликих личностей, художницы и поэта…
Переписка дополнена комментариями и воспоминаниями их сына Евгения Борисовича и складывается в цельное повествование, охватывающее почти всю жизнь Бориса Пастернака.
Женя не дает писать, требует, чтоб его занимали, и когда я губами щекочу его ручку, благодарно хохочет. Авось сам представишь, что могла бы я сказать, и с чем тебе не захочется соглашаться. В твое счастливое время я тебя не знала и не могу тебя представить иным. Что касается веры в тебя – то есть в твою работу – то неужели ты не понял то, что каждый кроме тебя, например, Дмитрий, понял, почему я не советовала тебе поступать на службу и почему иногда (как после стихов Катаева[77]) горячилась. Но и тут, как и во многом, ты оттолкнул меня. Это касается того, что я не читала и не знаю, буду ли читать твои вещи.
О своей работе не думаю, стараюсь не мечтать. Пока я только с завистью думаю о тех людях, которые приезжая в Петроград, ходят по Невскому, по набережным, засматривают в витрины книжных лавок – таким я представила себе Маяка, видела афишу о его вечере.
– Я живу в отвратительном районе вроде Сретенки, окружена измученными больными людьми, а у самой кружится голова, как только выйду на улицу, тошнит и нет сил. В будущем, если не придется работать – буду завистлива, несчастна и зла – в лучшем случае не буду жить, это выйдет как-нибудь само собой. Не могу писать, слезы застилают глаза. О твоем отце часто думаю, о том счастье, какое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали, потому что не знали другого, не боялись гибельной наследственности и влияния среды. Папа все это пережил и всех вас заслонил собою.
Подоплека маминого письма – ее истощение и усталость, о которых она пишет далее в наброске своего письма к бабушке Розалии Исидоровне. Но в нем сказалась и реакция на вечное отцово недовольство собой и самомучительство, на его жалобы, что он тратит время зря, и то, что он пишет, никуда не годится. Мама припоминает, как с верой в его успех с горячностью сопротивлялась его желанию поступить на службу, а он спорил с нею. Вероятно, в одном из таких разговоров он обидел ее, сказав, что ей самой не нравятся вещи, которые он пишет и может написать в будущем, что она сама их не читала и читать не собирается. Неосновательный упрек больно задел маму.
Противопоставляя импульсивность папиного характера и подверженность минутным настроениям – твердой выдержке его отца-художника, мама глубоко угадывала роль дедушки Леонида Осиповича, который каторжным трудом вывел свою семью из узости мещанской среды в артистический круг образованного общества.
Маму обижали папины “обещающие слова”, которыми он пытался убедить ее и себя в том, что завтра все изменится к лучшему. Она больше не хотела слышать об этом, считая, что он не выполняет обещанного. В действительности здесь затрагивались самые основы мироощущения отца и его глубокая вера во всемогущество жизни, не позволявшая ему долго замыкаться в мучительных и тяжелых переживаниях. Эта уверенность воспитывалась им в себе постоянно и спасала в самые страшные времена. Я часто в поздние годы сталкивался с этим, когда приходил к нему с жалобами на свои неудачи, казавшиеся мне безысходными, а он всегда находил слова убеждения и утешения, которым горячо верил сам и умел заразить меня. Это происходило не сразу во время разговора с ним, но его вера в целительную силу времени всегда получала подтверждение.
<27–28 мая 1924. Москва>Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледненья порывисто. Ах какое счастье, что это ты у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изошел и кончился.
Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, – у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь про что я говорю, нет? – Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.
Женя, Женичка, Женичка!
Ты слышишь? Женичка!
Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоют, улучи миг затишья, вслушайся, Женичка, слышишь как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетай сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!
Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя, возвеличивающей тебя страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде.
За волною этой нежности к тебе был возвращен на землю стуком в дверь. Подали твое письмо. (Это то, где о моем отце и заглушенных и высоких нотах.) Как ты права во всем, моя умница, да разве сам я всего этого не знаю! Но вперед вот о чем. У тебя голова кружится при выходе на улицу и тошнит?!! Как это понять, кровно родная моя прелесть, прелесть, прелесть! Напиши мне толком, что в Петербурге, для чего ты там и как понимаешь смысл и пользу твоего тут пребывания? Не решай опрометчиво, но, если ясно тебе, что для тебя там резкой и полной поправки не будет, то золото мое, какого черта ты там будешь маяться. Или что Сретенку собою красить? Но не стоит она того. Я и не знаю ее, да знаю. Тогда мигом собирайся назад, да дай только заблаговременно знать, надо будет няню сплавить (представь, этот мост вздохов все еще в Венеции[78]). А я тогда выясню насчет санатория хорошего с ребенком, это лучше всего будет, да иначе и нельзя.
Богом заклинаю тебя, друг мой, толком мне об этом напиши, как на то у тебя все данные имеются: глубина и здравость взгляда, сужденья и соображенья. Напишешь? И о работе. Обязательно надо тебе работать. Но вот как с няней быть? Не с этой, разумеется, с Евдокимовной, чтоб ей ни дна ни покрышки, а вообще: как и кого к ребенку искать? разумеется только няню. Никаких этих “одних” прислуг. Приспособлена ли Феня? Если, по зрелом обсуждении, тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее, и от всех своих страхов я отказываюсь, мы ее просто в плен возьмем, и передачи ей будем допускать только заочные, через сновиденья или же через нас самих. Гулюшка, это письмо твое меня страшно опечалило. Радость моя, неужели ты меня не любишь? Ты так привыкла к словам этим, к мысли самой, что тебе трудно уже отличить действительное от допустимого? Так ли это?
Но как же быть тогда, мой друг? Ты только не грусти и не скучай, лапушка. Ты знай, что я бог знает как способен закапываться в мусор повседневности, жалкий, скудный и бедственный, и тогда я про все забываю, тогда сердце затихает у меня. Ничего я тогда не помню. Я враг тогда себе и всему своему. И говорите вы, милые мои глаза, что я и ей врагом был, душе в вас светящейся, ей, неотторжимо милой моей, моей жене? Грусть моя и прелесть, скорей, скорей хочу сказать тебе, что горячо люблю и всегда любил тебя, и только часто от тебя отступался, и не верю, чтобы вовсе это не нужно было тебе, слишком большое было бы это горе. Я отвезу письмо сейчас на Николаевский вокзал. Теперь уже 7 часов, ускоренный отошел верно уже, но думаю, что и с 9-ти часовым письма ходят. Это чтобы поскорей попасть к тебе, и обнять тебя, и с тобой поговорить. Прости, сам вижу, – письмо бестолковое.
Твой Боря.
В холода я вынул часть вещей из сундука. Сегодня назад клал. Твоя шубка привела меня в трепет. Я целовал ее.
А как ты чудно о папе пишешь. И как пишешь вообще. Умница моя!
Вчера я к поезду опоздал. Они все теперь на час раньше отходят и курьерский отбыл в 8 ч., а не в девять, как я предполагал. Дорогая моя, а зачем ты о смерти своей говоришь? (Я опять все о том письме, где о глухих и высоких тонах, о папе и о Сретенке.) Впопыхах, задумавши с письмом к курьерскому поспеть, об этом не заикнулся, а теперь эти слова меня преследуют. Белая моя Женюрочка, дочка моя, белоножка, сядь на пол, положи ручки в подол, и взгляни, какая ты маленькая еще, только не вставай, сиди, на ковре ты лучше поймешь.
Господи, как люблю я, когда ты дуешься и не то подбородок у тебя чуть-чуть подбирается, не то это в щеках дело, плотнеют они, горделивеют, хорошеют, и губы чуть-чуть поджаты, и на глазах близкие слезы. Но ты с полу не подымайся. Видишь, ведь ты вылитая козочка Маруся, Братовщинская[79], помнишь ее? Ведь твоя смерть кроме горя и слез и потери всех козочек и тоски была бы таким преступленьем, такой слепой, возмутительной и к небу вопиющей жестокостью судьбы и спутников твоих в жизни, людей и вещей, что после нее, как убийцы, ни я, ни Женичка-мальчик, ни стихи, ни цветы, ни травы места бы себе во всей вселенной не нашли и всегда, вечно, во всех мирах этим бы казнились. Ведь это вот как вышло бы: сидела на полу, вся в белом, вся – жизнь и живость, вся – одаренность и огонь, вся в будущем и в обещаньях, неповторимая, исключительно-особенная, вся – нарядный бессмертник, большой, большой, и сколько души было, и ума, глухого, ваяющего, – и сын был, чуть моложе ее, просто сказать, младший ее братец – и вот, не досмотрели, и кто-то спичкой спалил ее, или булавкой проколол, и не звав на помощь, не пожаловавшись, дала случаю сжечь себя, и никто, никто не знал. Гулюшка, к чему слова тратить. Я никому и ничему тебя не отдам. Не отдам и смерти. Я туда вперед тебя отправлюсь и встречу, ты ведь так несамостоятельна. Да пускай я сейчас это сквозь волнение и ласку говорю, но серьезно скажу тебе и в другом роде. Но потом как-нибудь, в другой раз. Эта мысль не уйдет. Я тянусь к жизни с тобой, беспечной, верующей, без теплой воды в душе, без пыли в груди и в мысли. Ты увидишь, Женичка. А сейчас прощай, я боюсь говорить о планах и намереньях.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями"
Книги похожие на "«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Пастернак - «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями"
Отзывы читателей о книге "«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями", комментарии и мнения людей о произведении.