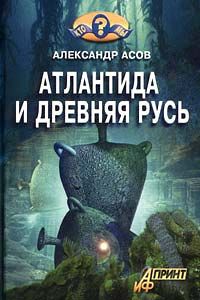Александр Назаренко - Древняя Русь и славяне

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Древняя Русь и славяне"
Описание и краткое содержание "Древняя Русь и славяне" читать бесплатно онлайн.
Сборник, издаваемый к 60-летию историка и филолога Александра Васильевича Назаренко, посвящен преимущественно истории Древней Руси. В нем собраны работы ученого главным образом последних лет, переиздаваемые в исправленном или сильно расширенном виде, а также новые статьи. Затронуты проблемы политического строя Руси XI–XII вв. (династические порядки и междукняжеские отношения, политическая история отдельных княжеств), истории церкви (становление и развитие епархиальной структуры Киевской митрополии, брачное право, феномен паломничества), государственной идеологии, историографии, топонимии (названия «Великороссия», «Малороссия», «Новороссия») и этимологии как древнерусского времени (название Киева), так и более раннего (скифский этноним «сколоты»). Этот корпус дополняют несколько работ по истории и историографии славян.
В данном случае позиция С. Франклина и Дж. Шепарда смыкается с крайностями так называемой «договорной теории» междукняжеских отношений, сформулированной в свое время В. И. Сергеевичем[120] в его полемике с «родовой теорией» С. М. Соловьева[121]. Развитие науки показало бесперспективность абсолютизации какого-то одного – будь то родового, будь то договорного – начала, ибо ни собственно родовые отношения внутри династии сплошь и рядом не обходились без договора, их подкреплявшего[122], ни договор не мог функционировать вне понятий династического легитимизма[123]. Поучительно наблюдать, как далеко за пределами древнерусской проблематики и абсолютно независимо от нее вдруг возникают схожие историографические коллизии. Так, давно и, казалось бы, прочно закрепившаяся в науке теория, выводящая территориально-политическую структуру Франкского государства эпохи первых Меровингов из архаической практики внутри-родовых разделов[124], вдруг была подвергнута радикальному сомнению в пользу идеи о том, что эти разделы определялись вовсе не какими-то общими династическими понятиями, а политическим договором ad rem, который исходил исключительно из особенностей ситуации[125]. Не приходится сомневаться, что субъекты этой полемики не подозревали о существовании своих русских прототипов вековой давности. Но для русиста эти симптоматичные схождения должны послужить лишним поводом вывести династическую проблематику Рюриковичей на простор сравнительно-исторических сопоставлений.
Разговорам о Древнерусском государстве как семейном владении Рюриковичей, начатым в рамках «родовой теории», суждено было надолго умолкнуть отнюдь не вследствие критики со стороны школы В. И. Сергеевича. Когда после работ С. В. Юшкова и Б. Д. Грекова в отечественной науке почти исключительно утвердился взгляд на Древнюю Русь как на государство феодальное, взаимоотношения между Рюриковичами даже древнейшей поры (до конца XI в.), если о них заходила речь, трактовались, как правило, в терминах сюзеренитета – вассалитета, то есть семейная терминология стала восприниматься лишь в качестве формы, которая скрывала фактически феодальные отношения[126].
В свое время, приступая к исследованию междукняжеских отношений на Руси, мы исходили из такой историографической ситуации как из данности и пытались путем типологических сопоставлений определить, с какого именно времени реальное содержание семейной терминологии оказалось выхолощенным, когда именно она превратилась в форму для иноприродного содержания? Внутридинастические отношения, в силу их относительно хорошей освещенности источниками, представлялись нам удобным материалом для выявления их постепенной феодализации, которая, в свою очередь, могла служить известной мерой «феодальности» общества в целом, а также помочь в поисках рабочих критериев синхро стадиальности разных обществ, тогда как эти критерии обеспечили бы уже научную обоснованность типологической компаративистики[127]. Однако углубление в тему, и прежде всего именно в сравнительно-исторический материал, убедило нас в необходимости отличать династическую проблематику от вопросов становления феодализма.
Феодальные, иными словами сюзеренно-вассальные, отношения связывают не членов династии друг с другом, а членов династии – со знатью, в той мере, в какой она состоит из держателей бенефициев (оговоримся на всякий случай, что ведем речь о раннефеодальном периоде). Таким образом, то, что можно было бы назвать феодализацией общества, происходило не внутри династии, а рядом с ней, хотя и при ее участии. Это очевидно на примере Франкского государства – в отличие от Руси, где скудость (если не сказать – отсутствие) выразительных данных о феодализации в домонгольское время заставляла историков искать следы феодализма там, где обнаруживается хоть какая-то иерархичность отношений, то есть внутри на удивление разветвленной и многочисленной княжеской династии. Пример Франкского государства ясно показывает, что видеть в междукняжеских династических разделах проявление пресловутой «феодальной раздробленности» совершенно неверно; образование династических уделов и феодальная децентрализация не имеют между собой ничего общего. Во-первых, разделы между членами династии сопровождают всю историю Франкского королевства, начиная с его основателя Хлодвига (умер в 511 г.), когда не только о феодальной раздробленности, но и о начатках феодализма говорить затруднительно. Во-вторых, мы видим, как совершенно независимо от династических уделов – отнюдь не на их основе, а внутри них – образуются те самые устойчивые наследственные территориальные владения знати, которые со временем становятся главными носителями феодальной раздробленности[128]. Удивительную типологическую близость династических порядков на Руси Х-XII вв. и во Франкской державе VI–IX столетий[129] невозможно продлить на общественно-политический строй обоих государств, который вырастает из слишком несхожих корней.
К сфере династической истории принадлежит по преимуществу и тема столонаследия, хотя эволюция его форм, попытки вывести его из сферы обычного права, подвергнуть особому регулированию, разумеется, стоят в связи с развитием государственности и государственного правосознания, и о некоторых сторонах этой зависимости пойдет речь и в настоящей работе.
Основополагающим принципом, определявшим взаимоотношения между членами правящих династий во многих раннесредневековых европейских государствах, был институт, изученный в первую очередь на франкском материале и получивший в науке название братского совладения[130] (corpus fratrum, Brüdergemeine, gouvernement confraternel)\ оно выражалось в непременном соучастии всех наличных братьев в управлении королевством по смерти их отца, что имело следствием территориальные разделы между ними, возникновение королевств-уделов[131]. Показательно, что при этом сохранялось представление о политическом единстве, которое, таким образом, вовсе не связывалось с единовластием как нормой, а было воплощено именно в единстве правившего рода. Благодаря этому единству единовластие всегда присутствовало как потенция, способная реализоваться в любой момент в силу династической конъюнктуры.
В феодализирующемся государстве corpus fratrum являлось пережитком эпохи варварских королевств, когда королевская власть была прерогативой не одной личности, а всего правившего рода, что обусловливало применение к объекту властвования процедур обычного наследственного права. Это могло быть связано, как считается, с идущим из древности представлением о сакральной природе королевской власти, в силу которой каждый член королевского рода ео ipso обладал властной харизмой. Следствием было известное безразличие к дифференцированной титулатуре: «королем» (тех) был всякий член рода, королями в равной мере титуловались все участники династических разделов по corpus fratrum у франков. Сходным образом и на Руси вследствие монополии Рюриковичей на княжеское достоинство важно было подчеркнуть принадлежность к роду с помощью универсального титула «князь», а также место во внутриродовой иерархии (как правило, посредством указания на принадлежность к поколению «отцов» или «сыновей»), тогда как к употреблению внешних символов власти, в том числе и развернутой титулатуры, наблюдается известное безразличие[132]. Не удается обнаружить в источниках и следов сколько-нибудь развитой церемонии княжеского настолования, которая была бы связана с вручением тех или иных инсигний власти (венца, державы и т. и.) или церковным помазанием[133]. Единственное, что стремится иной раз подчеркнуть летописец в связи с интронизацией киевских князей – это отчинную преемственность, то есть чисто династически-родовую сторону дела: «седе имя рек на столе отне и дедне».
Слом династического легитимизма у франков в VIII в., когда Меровинги были сначала de facto, а затем и de iure насильственно устранены от власти и на престол взошел Пипин Младший (751–768), первый король новой династии Каролингов, имел следствием повышенное внимание к репрезентации власти и введение в коронационный церемониал дополнительных сакральных процедур – в частности, церковного помазания. Необычность для «варварских» династий такого нововведения была очевидна и стала даже предметом иронии со стороны византийских наблюдателей[134]. Но и эта естественная озабоченность Каролингов проблемой легитимизации своей династии не могла воспрепятствовать усвоению (или сохранению) ими идеологии и практики братского совладения. Более того, позволительно догадываться, что они воспринимали последнее в качестве одного из признаков легитимности, «правильности» устройства династии. Если говорить о титулатуре, то это выразилось в продолжавшейся ее нивелировке, которая, как ни парадоксально, имела место даже после учреждения у франков империи в 800 г. Трудно найти документ более официальный, чем политическое завещание Карла Великого (768–814) – так называемое «Размежевание королевств» («Divisio regnorum», 806 г.), и потому особенно показательно, что все трое сыновей Карла, которые были в живых на тот момент, не только получали по распоряжению отца примерно равные уделы, но и титуловались совершенно одинаково – reges. И напрасно историк стал бы искать в завещании вроде бы столь уместного упоминания об «империи» или праве на титул «император»[135]: завещание оказывается несомненным документом идеологии братского совладения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Древняя Русь и славяне"
Книги похожие на "Древняя Русь и славяне" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Назаренко - Древняя Русь и славяне"
Отзывы читателей о книге "Древняя Русь и славяне", комментарии и мнения людей о произведении.