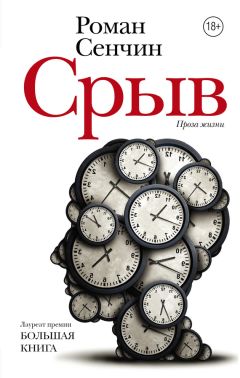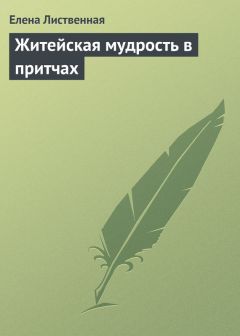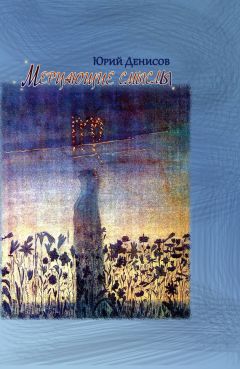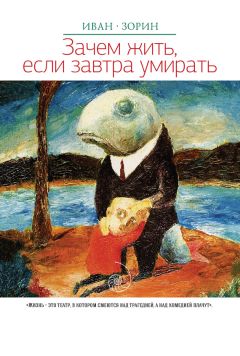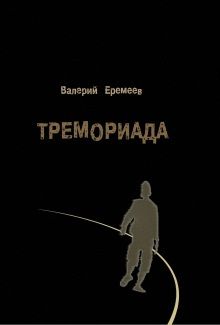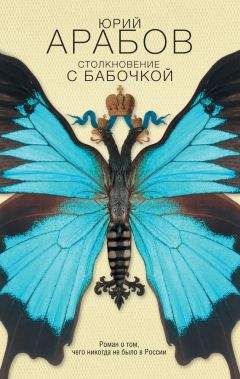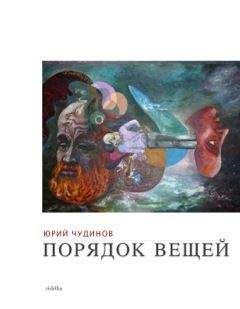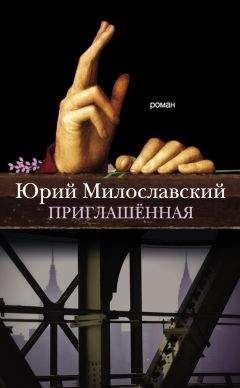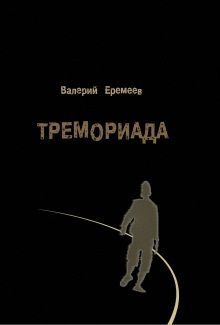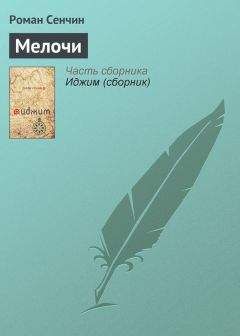Лев Халиф - ЦДЛ
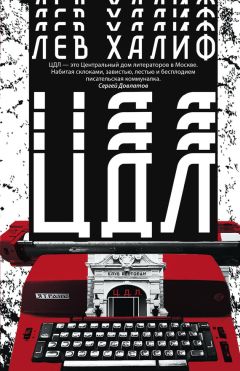
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "ЦДЛ"
Описание и краткое содержание "ЦДЛ" читать бесплатно онлайн.
Лев Халиф – русский поэт, прозаик, автор знаменитого четверостишия «Черепаха», которое в 50-е годы стало фольклорным. «Черепаха» ходила в списках, ее цитировали в спектаклях Эдлиса и брал эпиграфом Юрий Домбровский, но неизменно снимала цензура, тем более если она шла под именем автора. Однажды «Черепаха» была напечатана миллионным тиражом на обложке радиожурнала «Кругозор». В роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» «Черепаха» попала уже как фольклор. В 1977 году Халифа буквально вытолкнули в эмиграцию. «ЦДЛ» и роман «Пролом» были написаны на чужбине.
Если глянуть реалистически – жизнь их далеко не сказочна. Но это потом мы глянем реалистически.
И вот, живя как бы там. И очутившись в силу необходимости здесь. И не просто очутившись, а стремительно упадая сверху вниз, что само по себе уже чувствительно. Они как бы забывают напрочь (видимо, из-за своего возвышенного и продолжительного отсутствия) все неудобства своей земной жизни. И невзирая на то, что им тут же напоминают о ней, – восклицают: «Как же прекрасен мир!»
Это может сказать только человек не от мира сего.
Как скажет американец: «Я готов тебе построить мост даже там, где нет реки…» Хотя эта поговорка и претит его врожденному рационализму, допускаю, вполне может его построить там, где он не нужен. Поначалу.
У нас тоже создали министерство культуры, и не одно, невзирая на полное отсутствие ее как таковой. И в этом отношении мы тоже, как американцы, строившие мосты над сушей. Потом, правда, они их приспособили как эстакады для развязки своих многочисленных дорог. У нас же пока министерства не у дел. Или, мягко говоря, работают не в полную силу – культ-то есть, а вот…уры еще не хватает. Хотя все творческие союзы страны не покладая членств создают ее изо дня в день и пишут за себя и за того парня (ныне у нас принято и за погибших когда-то работать), а все одно, народ отчаялся спрашивать – когда ее выбросят? Хотя все еще очередь с ночи за ней занимает (правда, сюда его еще и сельскохозяйственные культуры манят, которых у нас почему-то тоже в обрез). Один балет и пляшет. Выделывает Петипа, когда не гопака выкаблучивает. Но это не для труженика показуха. Да цирк медвежий еще на уровне мировых стандартов (за что медведям спасибо). Тоже где-то по заграницам шастает и рыло свое не кажет. А если кажет, то редко – какой навар с соотечественников? Что с них взять? У них не то что доллара – рубля порой не сыщешь. Одна только песня с пляской имени Фрейлехса-Пятницко-го – местечкового еврея когда-то, надевшего русскую красную с петухами рубаху и научившего советского человека петь и плясать (за короткий срок разучился, бедняга). Другое дело, что петь и под чью дудку плясать?
Ну, насчет «что петь», тут поэты-песенники всегда помогут. И под что плясать – композиторы посоветуют. Они всегда на подхвате. Музыкальная шкатулка их ЦДЛ – дом на Миусской, всегда к вашим услугам. Да и в журналах теплится моча не только Лебедева-Кумача. Опять же есть на что перекладывать их всенародные песни. У нас народ выносливый. И не такое еще слыхал.
Соловьи седые и не седые, просто соловьи или соловьи-разбойники, поселясь в этом вечно трезвонящем доме, прежде всего попросили партию правительства утяжелить по возможности стены. Уж как их звуконепроницали, а все одно слышно. Хочешь не хочешь, а украдешь. Мелодия сама свороваться просится вместе с «рыбой», то есть с текстом вместе. Текст-то черт с ним, он всегда одинаков, а вот мелодия все же разнообразится иногда. То классики выручают. То презренный Запад какой-нибудь шлягер подбросит. Короче – получается, что дом этот более или менее удачной мелодией на всех и живет. А каждому хочется спеть именно свою песню. Кстати, новая песня – это хорошо забытая старая. Взять, к примеру, «Катюшу» Блантера – чуть ли не госгимн государства Израиль. Потому и не госгимн, что вовремя уворовал Матвей (уж как его там по матушке?) эту очень старую еврейскую мелодию. Спасибо, что хоть «Хаву Наталью» оставил. Или его же вальс «В лесу прифронтовом» – был немецко-фашистским вальсом, а стал трофейным и блантеровским (во всеядный!). Не случайно же у нас за двух Моцартов битых одного Матвея Блантера дают. Когда принимают пластиночный бой.
Вот Соловьев-Седой с рахманиновскими тактами, не целиком спертыми – еще куда ни шло. Бывают у нас и стеснительные авторы. И если уж берут чужое, так хоть меру знают. Но и они ее потом теряют, и всему виною – стены. Правительство, правда, посоветовало еще и матрасами рояль закрывать. Не помогает. Песня хоть и малый жанр, но риск большой. Напропалую воруют. И правительство разводит руками.
«Ну, тогда не взыщите, что песни у нас все до единой будут как одна…»
«Ничего, так даже лучше – народу легче запомнится, – сказали вожди песнеписцам, – главное, чтоб песня была нескончаемой. И тогда она никогда не будет старой. А уж репродукторы погромче мы всюду повесим. Над каждым селом. Глухой услышит. Мы ведь тоже, „как подругу, родину любим свою!“…»
– Ты не о них, а о нас пиши, раз писатель. А то все вы писатели на словах, – однажды осмелился кто-то из зала (провокатор, наверно).
Не на словах, а на нарах. Старый признак, если слово – дело. Слово, породившее дело… с тесемочками. Личное, пока есть лицо.
«Писатель на словах»… Хорошо было первым. Когда слова были первыми. Не захватанными. Не затертыми миллионоусто и миллиардократно. У художника – свежие краски. У писателя – старые слова. Всю жизнь заставляет звучать их по-новому, переплавляя в своих камерах сгорания, будто они железные, эти камеры, а потом граня и оттачивая (отвечать за них будет позже). Какую энергию раскрепостили эти слова? Кого пригвоздили и кого осчастливили?
Делать слова – нехитрое дело. Вот если эти слова переделывают все на своем пути (да не эти, что висят на заборах, вокзалах, мостах, домах многоэтажных, закрывая окна и воздух. Вдоль и поперек всей страны Советов – слова, слова, слова, будто застрявшие чьи-то пустые дыхания. Будто кто-то отчаялся убедить словом, сбросил с горы его материал и пытается хоть эхом его докрикнуть). До чего же емкое определение – «писатель на словах». Сколько тысяч писак оно уничтожает сразу. Раз – и нету, будто землю побрили.
Свободные профессии… Какие они свободные! Скрипят что-то и вякают. Деятели, чье приспособленчество мало смахивает на героизм.
Он перекрестил его могилу, усыпанную поверх казенных цветов живыми, принесенными просто людьми, просто читателями. Он стоял поодаль, не единственный в мире изгнанник, нобелевский лауреат. Его появление на похоронах Твардовского заклинило и без того скрипучее колесо этой невеселой процедуры, насторожив и без того перепуганных писательских секретарей. Привыкшие к любому незапланированному проявлению недовольства, избегая показываться на людях, по букве инструкции разрабатывая любую операцию, будь то похороны или просто собрание, они всегда чего-то ждут. Явно преувеличивая в окружающих способность протестовать.
И тем не менее Солженицын, сам того не ведая, смешал ряды пришедших хоронить поэта. Немногие из начальствующих писателей отважились приехать на кладбище. Достаточно нанервничались в ЦДЛ, куда посмел заявиться этот одиозный изгнанник, только и ищущий повода продемонстрировать свою одиозность. У могилы в непролазной толпе провожающих и просто любопытных стояли только те, кто в обязательном порядке должен был находиться до конца, представляя официальный коллектив московских литераторов.
Партийные писатели мгновенно отступили подальше от гроба на случай, если Солженицын подойдет и встанет рядом.
Беспартийные, перемигиваясь, сжираемые любопытством, придвинулись поближе, заприметив на всякий случай пути к отступлению.
Кто-то спросил одного из них: «Какой из них Солженицын?» Тот, побелевший от страха, громко, чтобы все слышали, крикнул: «Что вы! Я не знаю такого писателя!»
Туристка из Западной Германии, оказавшись случайно на похоронах, тихо сказала спросившему: «Я вас понимаю… Мы тоже пережили нацизм».
Один-единственный раз пришел я в «Новый мир» к Твардовскому. Положил ему на стол пачку своих стихов. И, не слишком веря, что он их напечатает, полюбопытствовал: почему он печатает, как правило, средние стихи в отличие от хорошей прозы? На что Твардовский ответил, что прозу он понимает меньше, а за стихи его бы били больше.
Мою подборку он прочитал при мне. Обычно он делал это дома. А не при авторе, сидящем над душой. Прочитанные стихи легли в две пачки. По мне хоть левую, хоть правую – все одно было бы не худо напечатать. Потом он соединил обе пачки моих стихов и вернул мне.
– Почему вы не пишете поэмы? С вашим талантом да с колокольным бы звоном въехать!
– Я бы ограничился бубенцами.
– Да нет, я серьезно. Вот здесь, – и он ткнул в мои стихи, – есть все для написания поэмы. И не одной. Густо пишете! Но зачем себя втискивать на малую площадку стихотворного жанра? Я признаю поэмы! Только в них, как на столбовой дороге, разгуляться можно. Пишите поэмы! Вы сможете! Или повествовать не хочется?
– Если мне захочется повествовать, я прозу начну писать.
– И то резон, – откинулся в кресле Твардовский.
– Тогда, кстати, у меня будет больше шансов у вас напечататься.
Сейчас, когда я пишу свою первую прозу, Твардовского уже нет в живых. Отлученный от журнала, он спился и умер, да и будь он жив и стань редактором снова – все одно не смог бы напечатать это.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ЦДЛ"
Книги похожие на "ЦДЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Халиф - ЦДЛ"
Отзывы читателей о книге "ЦДЛ", комментарии и мнения людей о произведении.