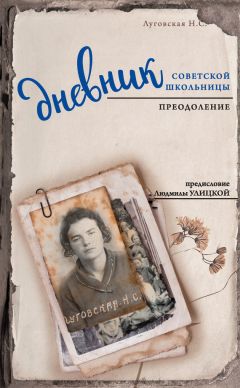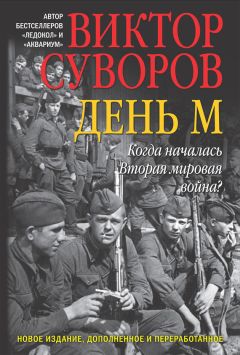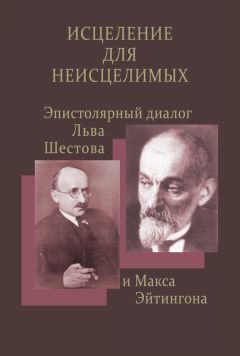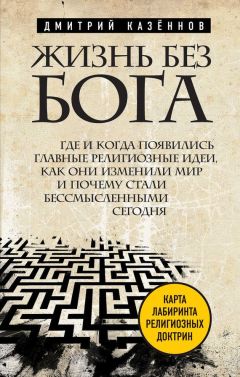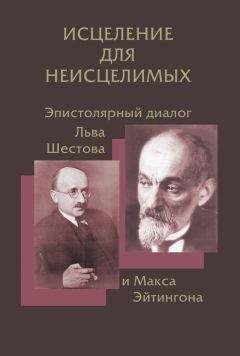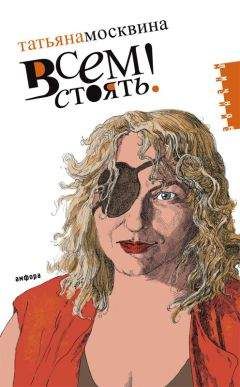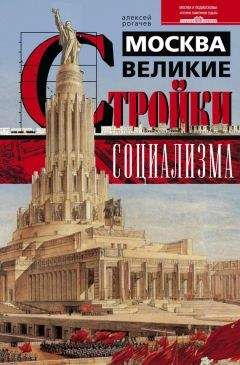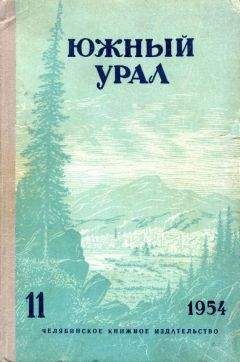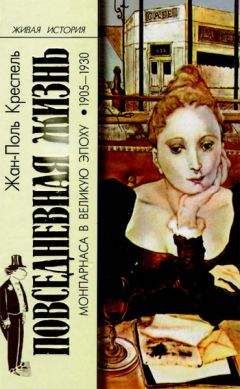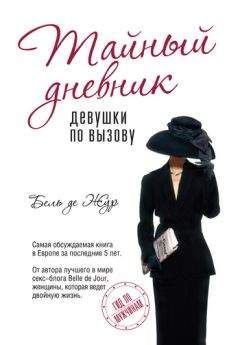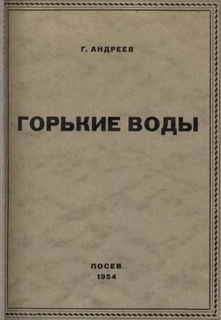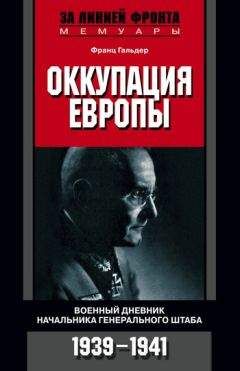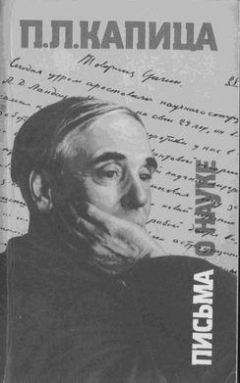Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Маятник жизни моей… 1930–1954"
Описание и краткое содержание "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать бесплатно онлайн.
Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869–1954) прожила долгую жизнь и сменила много занятий: была она и восторженной революционеркой, и гувернанткой в богатых домах, поэтом, редактором, театральным критиком, переводчиком.
Ее “Дневник”, который она вела с 1930 по 1954 год, с оглядкой на “Опавшие листья” Розанова, на “Дневник” Толстого, стал настоящей эпической фреской. Портреты дорогих ее сердцу друзей и “сопутников” – Льва Шестова, Даниила Андреева, Аллы Тарасовой, Анатолия Луначарского, Алексея Ремизова, Натальи Шаховской, Владимира Фаворского – вместе с “безвестными мучениками истории” создавались на фоне Гражданской и Отечественной войн, Москвы 1930-1950-х гг. Скитаясь по московским углам, она записывала их истории, свою историю, итог жизни – “о преходящем и вечном”.
Коротенькая Шияновская вывела нас на рыночную площадь. Отсюда мать приносила нам раскрашенных фуксином мятных петушков с позолоченной головкой и артистическое кулинарное достижение печерских торговок – жареные пирожки с горохом и с кашей – копейка за штуку.
На площади стояла дегтярная лавка. Ее черный вид, тяжелый запах и одноглазый продавец, весь перепачканный дегтем, внушали мне страх не меньший, чем гуси, которые часто разгуливали около возов с овсом, стоявших недалеко от лавки.
Однажды обуяло меня желание добрых дел. На этом рынке я купила большой хлеб у солдата, продававшего излишки своего хлебного пайка. Деньги же для этой цели я собирала три или четыре дня. Это были пятаки, полученные на завтрак и припрятанные в копилку – жестяной домик с зеркальцами вместо окон. Было мне тогда уже 10–11 лет. Доброе дело началось с того, что солдат, просивший за хлеб гривенник, уступал его за 8 копеек. А я вмешалась и сказала: гривенник – это дешево. Вот вам 15 копеек (солдатское житье нам в детстве казалось очень несчастным).
– Чи ты, дивчина, сказылась (с ума сошла), – сказал и даже сплюнул. Но добавочный пятак взял, пожимая плечами. Энтузиазм добра сильно уменьшился во мне после этой сцены. И совсем потух, заменившись обидой и стыдом, когда с огромным хлебом под мышкой я начала скитаться по базару, невпопад предлагая его женщинам, которые казались мне бедно одетыми. Одна из таких хозяек спрашивала: – Сколько ж ты за его хочешь? – и с тем же оскорбительным недоумением, как солдат, пожимали плечами и отворачивались от меня, услыхав, что мне не надо ничего. Другие высказывали мысль, что я этот хлеб “дэсь” (где-то) сперла. Десятифунтовый хлеб оттянул мне руки, я не знала, что с ним делать. Напрасно отыскивала глазами нищих, которых не оказалось нигде поблизости. Кончилось тем, что я в отчаянии почти насильно всунула эту ковригу в кошелку какой-то старухе, которая протестовала в ответ на мое бормотание: это вашим курам… или, может быть, поросенку. У нас были куры. Но я предвидела общее удивление, смех и, кроме того, расспросы, откуда деньги, если бы я ни с того ни с сего притащила такой хлеб домой.
Но не довольно ли на сегодня. Эти прогулки по стране, “где я впервые вкусила сладость бытия”. Впереди прогулок будет еще много в течение месяца, который я думаю прожить здесь, под небом моего детства…
Я знала, уезжая, что здесь меня ждет нечто важное. Это важное – опыт новой ступени сознания. Почти непрерывно я живу сразу во всех слоях моего детства, юности и молодости. И одновременно в судьбах смежных, близких мне жизней.
24 сентября – 4 октября…Рано утром в переднюю с шумом ворвался старый коммунист З.[101], знавший тарасовскую семью еще во время молодости родоначальников ее.
Родоначальница спала на складушке у самых дверей. Увидев ее высунувшуюся из-под одеяла голову, З. закричал на весь дом:
– Леонилла, здравствуй, или не узнаешь? Скрываемся! – собирает материал для истории той партии, где смолоду была “Нила Чеботарева” и я. Лицо азефовское[102] – невпроворот каких-то лишних мускулов на щеках и на лбу, бегающие глаза, во всей фигуре стремительный натиск, в интонациях наглая развязность. Посидел у Леониллы час, взбудоражил в ней, отраженно и во мне, древние партийные воспоминания.
…Это было 43 года тому назад. Я сидела за прилавком в книжном киоске на станции Грязи[103], где мечтала накопить денег и поехать с одной из гимназических подруг освобождать заключенных из Карийских тюрем[104].
Этот план созрел после чтения книги Кеннана[105]. Но уже становилось ясно, несмотря на девятнадцатилетнюю желторотость, что денег, не только нужных для такого подвига, но и таких, на какие можно доехать до Кары, при 30 рублях жалованья не собрать и что Сибирь нам вдвоем с Лидой Б.[106] не поднять на защиту карийцев и на свержение ненавистного режима.
Неожиданно пришло письмо от Леониллы: “Есть дело. Есть люди”. В предшествующий год мы часто толковали с ней о необходимости “дела” и о том, где найти “людей”.
И я, бросив все, примчалась в Киев и попала в иезуитски строгую организацию, намеревавшуюся перевернуть весь существующий строй, начав с личного фанатического закала каждого партийца. Никакие крестоносцы не были так пламенно, безоглядно воодушевлены, как мы, женская половина нашей партии. Как неопалимая купина, мы горели с утра и до вечера, а то и всю ночь напролет жаждой отдать свою жизнь за “Истину – Справедливость”, за “прогресс”, за “всемирное братство”. По этим киевским улицам, где сейчас тащатся калечные трамваи, обвешанные гроздьями полуголодных, запыхавшихся от спешки и 24-часового рабочего дня ударников, мы ходили чинно с непроницаемым видом заговорщиков, не смея при встрече обменяться взглядом с членом своей партии. Но внутри нас шла такая же 24-часовая в сутки работа разрушения старого мира. Ради нее мы спали на досках, ели то, что было противно, лишали себя самых невинных радостей – театра, катания на коньках, “обывательских” вечеринок. И с мученическим экстазом приносили огромные жертвы: порывали все связи с родителями, с женихами, выходили замуж по указке главы партии. Чувствую ли я теперь связь между той своей “работой”, тем энтузиазмом юности моей и толпой ударников, заталкивающих меня на трамвае № 10?
Конечно, мы не так воображали себе послереволюционное время. Это была “слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение”. Но история всегда вносила во все мечты реальнейшие поправки. Она внесла этот ударный темп строительства, колхозы, пятилетку, каторжный труд, недоедание, недосыпание; она не позволяет читать то, что ты хочешь, писать так, как ты хочешь, она свела на нет все права личности как таковой, Человека с большой буквы, заменив его классом. Это повергло бы нас 40 лет тому назад в недоумение и скорбь, а может быть, обескрылило бы наши фантазии.
Но оттуда – к этому перегруженному трамваю – все-таки есть мост, по которому я вхожу беззлобно, вынося заталкивания и грубость. Пришли ударники, те, которых во время моей молодости жизнь заталкивала в топь невылазной нищеты и бесправности. Оттуда они принесли свою грубость – господствующий класс не гладил их по головке. И естественно, что на трамвае, как и повсюду, им хочется доказать “старым пани” и белоручкам-интеллигентам, что пора их царствования прошла. И конечно, они не могут поверить, что я вместе с ними рада, что у них есть рабфак и вуз, что они, а не “паны” – господствующий класс, потому что не может быть иного распределительного для благ мира сего принципа, чем принцип труда.
8 октябряПоеду через час в Лавру, в “музейный городок”[107], искать путеводитель для моего именинника. Наконец солнечный день, лазурно-золотой и такой теплый, как в зените московской весны. В воздухе реют стаи мелких молодых прозрачно-желтых листьев акации. Они появились на ней за последние два-три дня, но так обильно, что она уже почти золотая. А клены от вершины до низу великолепных апельсинно-лимонных оттенков. Тополь не хочет желтеть. Он просто сморщивает и покрывает ржавчиной свою блестящую зелень. Эти готики пирамидальных тополей я скоро не увижу. Да и увижу ли еще когда-нибудь? Это был, по всей вероятности, последний рейс старого корабля в страну моего детства.
В Лавре – великолепное сочетание архаически-величавой архитектуры, сияющих, как солнечные диски, массивных куполов, воздушного прозрачного золота осенней листвы лаврского сада, глубокой синевы неба и Днепра и окутанных голубой дымкой необъятных заднепровских далей.
Опять пережить удивительное состояние сложнейшего, но сконцентрированного в едином миге сознания: затворники “дальних” пещер, печенеги, половцы, плач Ярославны, юность матери моей (я прошла по той лесенке у дальних пещер, какой она ходила к ранней обедне 65 лет тому назад), судьба друга – моей Людмилы[108], с которой я провела этот лаврский день, и судьба той одинокой старческой жизни (74-летней Насти), которую приютил домик у дальних пещер, где мы обедали и пили чай.
На обратном пути – вид с бугра за лаврской стеной – часть киевского берега, громадные обрывы, холмы с лаврскими садами и постройками. Над Днепром линия берегового шоссе, за Днепром – полгоризонта Черниговщины, пространство, объявшее белые отмели и дымно-синие дальние излучины Днепра-реки, сосновые леса Дарницы и точно висящие в воздухе легкие мосты справа и слева. И над всем – бело-золотое видение лаврских храмов, ушедших в прошлое, в Древнюю Русь, как град Китеж в подводное царство. От этого вида не грусть и не радость, а торжественность смерти, залог нетления и обет преображенной жизни.
13–19 октября. МоскваФерма Орлово-Розово близ Мариинска в Западной Сибири[109]. Барак на 40 человек. Нары там же, где спят, на стенке и под головами продукты – бедные дары близких. Долгий безропотный рабочий день. Надсмотрщики, удивленные добросовестностью и безответностью “черничек”, относятся более или менее человечно. От работы болит спина. От переутомления и недоедания оживают у более немощных и пожилых все недуги. Но это переносится терпеливо (крест!), и к врачу обращаются в крайних случаях. Пища – кило хлеба и приварок. Посылки – общая радость, как и письма, праздничные дни. Ночью спят вповалку, на нарах. По телам спящих суетятся крысы, добирающиеся до припасов. Таков обиход моей матушки Дионисии, о котором она пишет: “Все слава Богу”, “все мне на пользу”. И только прибавляет: “Вот о вас скорбею душой, кто за вами поухаживает, когда заболеете”.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Маятник жизни моей… 1930–1954"
Книги похожие на "Маятник жизни моей… 1930–1954" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954"
Отзывы читателей о книге "Маятник жизни моей… 1930–1954", комментарии и мнения людей о произведении.