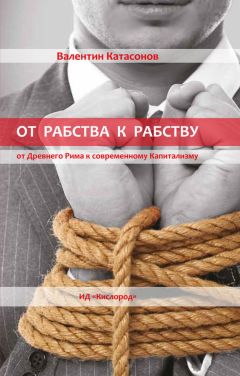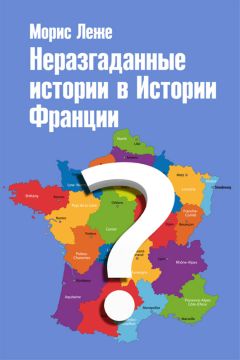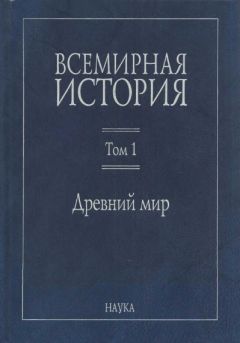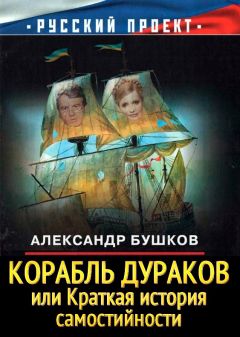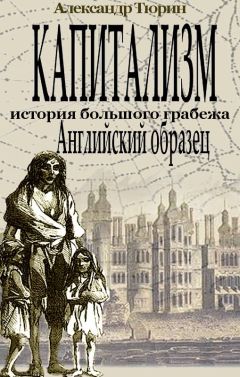Александр Ивин - Философское измерение истории
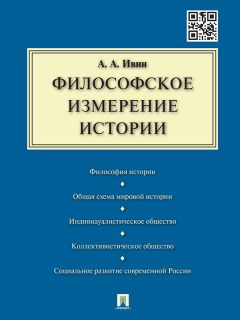
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Философское измерение истории"
Описание и краткое содержание "Философское измерение истории" читать бесплатно онлайн.
В книге представлена новая концепция человеческой истории. История рассматривается с точки зрения противопоставления индивидуалистической и коллективистической форм организации общества. Эти формы представляют собой два крайних полюса, между которыми располагается большинство обществ, движущихся в своем развитии то к одному, то к другому из полюсов. В центре внимания – современное общество и две полярные его разновидности: современный капитализм и радикальный социализм. Эти формы коллективистического общества сопоставляются с древним и средневековым коллективизмом. История понимается широко, так что в нее включается не только политическая и экономическая история, но и эволюция целостных культур, философия человека, смена стилей мышления и способов жизни, форм любви и т. д. Книга рассчитана на философов, историков, политологов и представителей других социальных и гуманитарных специальностей.
Полная характеристика тоталитаризма особенно важна при обсуждении вопроса, обречен ли режим с монопольно владеющей властью партией на тоталитаризм. Ответ «да» при условии, что у власти стоит «революционная партия», чересчур абстрактен. Для его конкретизации необходимо знать, каким является само то общество, которым правит такая партия.
И еще один вопрос, при ответе на который необходимо иметь более полное представление о тоталитаризме, – это вопрос о судьбе тоталитарного общества. Арон, ссылаясь на особую природу человека индустриального общества, якобы толкающую его к наслаждениям и эгоизму и остающуюся одной и той же и в тоталитарном и в нетоталитарном обществе, полагает, что нет оснований считать, будто современный мир раздирается постоянной борьбой двух противоположных идеологий. Таких оснований тем более нет, что тоталитарный человек двойствен и, будучи индивидом индустриального общества, не очень доверяет тоталитарной идеологии, хотя и не заявляет об этом там, где этого не следует делать.
Этот вывод о глубинном, внутреннем единстве двух форм индустриального общества не кажется обоснованным.
Рассуждения о «природе человека», выражающейся в нескольких характерных его чертах, сомнительны. Тот человек коммунистического общества, о двойственности которого говорит Арон, – это человек 60-х гг., живущий в уже начавшем загнивать коммунистическом обществе. Он действительно двойствен, поскольку находится под действием коммунистической идеологии, которой он еще во многом верит, и одновременно под действием «буржуазной пропаганды», которой он уже в чем-то доверяет. Этот начавший уставать от строительства коммунизма человек скептически относится к партийному пророчеству, что кто-то из его современников будет жить при коммунизме и, значит, окажется как раз тем «новым человеком», который предполагается коммунистическим обществом. Но человек динамичного и уверенного в себе коммунистического общества 30–40-х гг. был совершенно иным. Он искренне верил в будущего «нового человека» и с неприязнью относился к описываемому Ароном «человеку индустриального общества». В 60-е и особенно в более поздние годы мир уже не раздирался двумя непримиримыми идеологиями: одна из них заметно выдыхалась, и исход схватки был, в сущности, предрешен.
Обзор позиций по вопросу соотношения коллективизма и индивидуализма показывает, что противопоставление этих основных форм устройства общества имеет долгую традицию, хотя сами термины «коллективизм» и «индивидуализм» использовались не всегда.
Противостояние коллективизма и индивидуализма является достаточно универсальным и охватывает, в сущности, всю человеческую историю. В наиболее ясном и обнаженном виде оно обнаруживает себя в современной истории, в противоборстве тоталитарных режимов и западного индивидуалистического общества. Сложнее обстоит дело с прошлыми эпохами, с доиндустриальным обществом, где противостояние коллективизма и индивидуализма менее выражено и где они не сталкиваются друг с другом в холодной или горячей войне.
Все основные термины, связанные с анализом противостояния коллективизма и индивидуализма, являются пока недостаточно ясными: «коллективистическое общество», «индивидуалистическое общество», «древний коллективизм», «средневековый коллективизм», «западное индивидуалистическое общество», «тоталитаризм» и т. д. О терминах «капитализм» и «социализм», все еще широко употребляемых для обозначения прошлого и возможного будущего состояний общества, не приходится говорить: они не проясняют, а, скорее, затемняют сущность современного исторического периода.
Проблема состоит, однако, не в том, чтобы ввести новые определения всех этих и связанных с ними понятий. Определения действуют в довольно узком интервале. С одной стороны, он ограничен тем, что признается очевидным и не нуждающимся в особом разъяснении, в сведении к чему-то еще более известному и очевидному. С другой стороны, область успешного применения определений ограничена тем, что остается пока еще недостаточно изученным и понятным, чтобы дать ему точную характеристику. Попытка определить то, что еще не созрело для определения, способна создать только обманчивую видимость ясности.
Для прояснения указанных понятий нужны не кропотливые поиски их определений, а построение последовательной и хорошо обоснованной теории исторического процесса, включающей эти понятия в качестве своих узловых элементов.
Цельность и ясность любой теории придают не столько разъяснения и ссылки на более ясное и очевидное, сколько многообразные внутренние связи ее понятий. Далеко не всегда эти связи приобретают форму специальных определений. Ясность и обоснованность той целостной системы, в которую входит понятие, – лучшая гарантия и его собственной ясности.
§ 3. Коллективистические сообщества: армия, церковь, масса, нормальная наука
В каждом обществе, независимо от того, является оно коллективистическим или индивидуалистическим, имеются определенные коллективистические сообщества. К их числу относятся армия, церковь, тоталитарные религиозные секты, тоталитарные политические партии, предприятия, корпорации, организованная преступность и др. Коллективистическим по своей сути сообществом является и так называемая нормальная наука, впервые возникающая в индустриальном обществе. Определенные черты, характерные для коллективистических сообществ, демонстрирует и высокоорганизованная масса, или высокоинтегрированная группа.
Ленин как-то заметил в 1917 г., что социализм превратит все общество в единое учреждение, единую фабрику с равным трудом и равной оплатой. Здесь в качестве образца для коллективистического общества, каким является социализм, выдвигается частное сообщество, существующее также и в индивидуалистическом сообществе. Ленин мог бы уподобить социализм и другому, хорошо известному ему сообществу – тоталитарной коммунистической партии. Коллективистические сообщества являются упрощенной моделью коллективистических обществ, а тоталитарные коллективистические сообщества – упрощенной моделью тоталитарных коллективистических обществ.
Армия, как и бюрократическая пирамида, опирается на понятия долга, дисциплины и иерархии. Долг предполагает признание безличных правил и норм как обязательных для всех рангов, включая и самые высшие. В периоды ослабления армии понятие долга нередко замещается понятием лояльности, личной преданности вышестоящим ступеням армейской иерархии. С точки зрения долга в армии все равны, начиная с солдата и кончая генералом: все являются солдатами, у всех один и тот же долг. Дисциплина включает безусловное исполнение приказов, обсуждение и обжалование приказов только после их исполнения. В армиях индивидуалистических обществ иногда вводится понятие «преступный приказ», который подчиненный имеет право не выполнить. При этом «преступность приказа» обычно связывается с нарушением прав человека. Армейская иерархия универсальна, проста и понятна каждому. Она соответствует четким подразделениям «штатного расписания» и призвана противодействовать постоянно изменяющейся паутине межличностных взаимоотношений и развитию личного покровительства, покрывательства, соперничества и вражды на всех уровнях.
Армия имеет ясно определенную цель, которой является «защита отечества». Иногда, впрочем, эта «защита» выливается в завоевание других государств. Армия всегда держит в уме свою цель, она живет по преимуществу будущим и постоянно готовится к грядущей войне. Как и всякое проявление коллективизма, армия имеет также «врага». В мирное время это «потенциальный противник», требующий от армии постоянной бдительности и приспособления своих сил и средств к его будущим возможным действиям.
У армии всегда есть «вождь», или полководец. Она должна верить своему вождю и повиноваться ему, иными словами, армия подчиняет рассудочную и деятельностную составляющие своих «солдат» персонифицированному высшему началу. Иногда утверждается, что она требует также подчинения этому началу чувственной составляющей, т. е. предполагает не только веру и повиновение вождю, но и любовь к нему. С требованием любви к «вождю», обычном в коллективистическом обществе, в армии дело обстоит сложнее.
3. Фрейд проводит различие между высокоорганизованными массами, возглавляемыми вождями, и теми, где вождь отсутствует. Типичными примерами первых являются церковь, объединение верующих, и армия, войско. «И церковь, и войско представляют собой искусственные массы, т. е. такие, где необходимо известное внешнее принуждение, чтобы удержать их от распада и задержать изменения их структуры. Как правило, никого не спрашивают или никому не предоставляют выбора, хочет ли он быть членом такой массы или нет; попытка выхода обычно преследуется и строго наказывается, или же выход связан с совершенно определенными условиями»[106]. В этих высокоорганизованных, тщательно защищенных от распада массах с большой отчетливостью выявляются известные взаимоотношения, гораздо менее ясные в других случаях. В церкви (например, в католической церкви), как и в армии, культивируется одно и то же обманное представление (иллюзия), что имеется верховный властитель, любящий каждого отдельного члена массы равной любовью. В церкви – это Христос, в войске – полководец. «На этой иллюзии держится все; если ее отбросить, распадутся тотчас же, поскольку это допустило бы внешнее принуждение, как церковь, так и войско»[107]. Об этой равной любви совершенно определенно заявляет Христос. К каждому члену верующей массы он относится как старший брат, является для верующих заменой отца. Все требования, предъявляемые к отдельным людям, являются выводом из этой любви Христовой. Церковь проникнута демократическим духом именно потому, что перед Христом все равны, все имеют равную часть его любви. Верующие – это «братья во Христе», братья по любви, которую питает к ним Христос. «Подобное, – полагает Фрейд, – относится к и войску: полководец – отец, одинаково любящий всех своих солдат, и поэтому они сотоварищи»[108]. Армия строится ступенчато, поэтому каждый капитан в то же время и полководец, и отец своей роты, каждый фельдфебель – своего взвода. В церкви и армии каждый отдельный человек либидозно связан, с одной стороны, с вождем (Христом, полководцем), а с другой – с другими индивидами. В подтверждение своей позиции Фрейд ссылается на феномен паники. Она возникает, когда масса разлагается. Суть паники в том, что ни один приказ начальника не удостаивается более внимания и каждый печется о себе, не считаясь с другими. Взаимные связи прекратились, и безудержно вырывается на свободу гигантский бессмысленный страх. Воинская часть может охватываться паникой, даже когда опасность не больше привычной и до того неоднократно этой же воинской частью стойко переносилась. Типичный повод для взрыва паники приблизительно таков. Воин кричит: «Полководец лишился головы!», и сразу же ассирийцы обращаются в бегство. Потеря в каком-то смысле полководца, психоз по случаю потери порождает панику, причем опасность остается той же: если порывается связь с вождем, то, как правило, порываются и взаимные связи между индивидами. Фрейд ссылается также на примеры великих военачальников – Цезаря, Валленштейна и Наполеона, подтверждающие якобы, что армия опирается не на идеи, а только на любовь вождя к ней и ее ответную любовь к своему вождю.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Философское измерение истории"
Книги похожие на "Философское измерение истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Ивин - Философское измерение истории"
Отзывы читателей о книге "Философское измерение истории", комментарии и мнения людей о произведении.