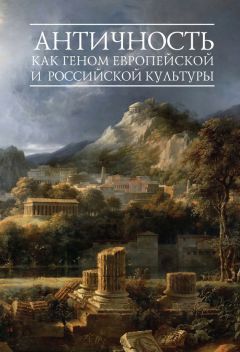Е. Бакеева - Введение в онтологию: образы мира в европейской философии
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Описание и краткое содержание "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии" читать бесплатно онлайн.
В учебном пособии рассматриваются основные проблемы и понятия онтологии как фундаментальной философской дисциплины. Обращение к традиционной онтологической проблематике осуществляется в опоре на идею философии как «логики культуры», сформулированную в творчестве отечественного мыслителя В.С. Библера. В контексте этой идеи культуры европейской Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени предстают как целостные, обладающие самостоятельной ценностью ответы на вопрос о бытии или определенные способы осмысления-осуществления бытия.
Это, последнее утверждение, однако, косвенно указывает на выход из данного тупика: положение о самостоятельном существовании идей необходимо для того, чтобы было «куда направить свою мысль». Иными словами, в рамках задачи осмысления единого мира человек должен помыслить как немыслимую для него неоформленную материю, так и столь же немыслимые, обособленные от всего идеи вещей. Взятые в «чистом виде», материя и идея – пустые абстракции, однако в контексте этой задачи они выступают как ее обязательные условия. Осознавая необходимость понять мир как всеобщее единство, я, конечно, признаю, что материя и идея тоже изначально принадлежат к этому единству, а значит, материя всегда уже как-то осмыслена, а идея всегда уже воплощена в субстрате. Однако сам процесс осмысления включает в себя допущение материи и идеи «в чистом виде».
Таким образом, идея в древнегреческой философии (не только в учении Платона) – это одна из сторон парадокса, характеризующего положение человека в мире: будучи сам «смешением» материи (стихии) и идеи (порядка), человек призван к тому, чтобы каждую вещь мира понять как такое соединение, но для этого как раз и нужно первоначально идею и материю разъединить, помыслить по отдельности. Тогда получается, что утверждение существования идей «самих по себе» – это не исходный, а средний пункт рассуждения, началом же его выступает то самое переживание полноты и целостности всего существующего, которое оборачивается для человека открытием задачи: понять все как одно. Отношение материи и идеи можно, таким образом, понять как конкретизацию этой исходной интуиции: все есть одно, где «идея» выступает как «представитель Единого», а «материя» – как «представитель всего (многого)». Это первичное переживание, будучи обращенным на какую-то конкретную вещь или явление, есть одновременно и чувство (моя материальная составляющая непосредственно соприкасается с материальной основой мира), и мысль (иначе мне не удалось бы воспринять вещь как что-то отдельное, «одно»).
Идея – в платоновском смысле этого слова – и есть смысловая сторона первичного переживания единства мира. Последний в процессе осмысления как бы поворачивается к мыслящему разными «лицами», выступая перед ним не только как «истина», «красота» или «справедливость», но и как «дерево», «камень», «животное», «человек»… В идее мир как раз и сворачивается в ту «точку Единого», о которой говорилось выше, и из нее же разворачивается распознавание вещей как причастных тем или иным идеям. Очень точно этот смысл понятия «идея» выражен отечественным мыслителем Р. А. Лошаковым: «Идея присутствует в предмете, оставаясь при этом единым, не дробясь и не рассыпаясь в предметном множестве»56. Эта способность идеи «присутствовать в предмете» и одновременно «оставаться единым» как раз и связана с тем, что идея – это то самое в моем переживании мира, что и делает его чем-то одним, несмотря на все многообразие. Поэтому идея – как момент моего исходного переживания – никогда не может стать для меня предметом, т. е. тем, что находится передо мной, являясь частью многообразного мира.
Иными словами, идея не подлежит определению, не может быть выражена до конца ни в словах, ни в образах, напротив, это то, что всегда выступает условием того, что вещь может быть названа или представлена. Идея – непосредственно переживаемый смысл вещи или явления, присутствующий тогда, когда мыслящий как бы «принимает» структуру данной вещи, уподобляется ей. Именно поэтому вопрос, с которого начинается большинство платоновских диалогов: «что есть (нечто)… само по себе?», следует понимать не как попытку дать определение этого самого «нечто», но скорее как начальный, «пусковой» момент процесса переструктурирования участников диалога. Например, рассматривая различные варианты определения «прекрасного» и отметая их одно за другим, собеседники незаметно для самих себя воспроизводят, актуализируют тот смысл «прекрасного», который позволяет им, несмотря на очевидную невозможность дать определение, все же понимать, о чем идет речь.
Таким образом, идея как смысл – это реальное событие мысли, которое должно случиться, о-существиться, именно поэтому платоновский тезис о вечности идей следует понимать как утверждение невозможности их длящегося существования: идея должна всякий раз рождаться заново в мыслящем (или рождать мыслящего в себе, что в данном случае одно и то же).
Наконец, понятиями, близкими по смыслу категориям «число», «эйдос», «идея», можно назвать аристотелевские понятия «формы» и «сущности». Признавая (в отличие от Платона) существование только единичных, конкретных вещей, Аристотель называет «формой» начало определенности, противостоящее неопределенному материальному началу и, в силу этого, не возникающее и не уничтожающееся. Говоря, например, о медном шаре как о вещи, в которой материя (медь) соединена с формой (шарообразностью), Аристотель подчеркивает: «…то, что возникает, должно будет быть без конца делимым, и [всегда] одна часть будет представлять одно, другая – другое, именно одна – материю, другая – форму. Если поэтому шар – это фигура, [всюду] одинаково отстоящая от центра, тогда в этой фигуре будет дано, с одной стороны, то, что объемлет создаваемую [шаровидность], с другой – то, что объемлется [этим] первым, а то и друге вместе – это будет то, что возникло по образцу медного шара. Таким образом, из сказанного очевидно, что то, о чем мы говорим как о форме или сущности, не возникает, а составная [сущность], получающая от этой формальной свое наименование, возникает, и что во всем возникающем есть материя, так что одна часть < в нем> есть одно, а другая – другое»57.
Итак, форма – это то, что делает возникающую (находящуюся в движении, изменчивую) вещь «чем-то», что можно воспринимать в ее отдельности, о чем можно мыслить и говорить, а следовательно, сама форма не может изменяться. Эта неизменность формы, однако, так же как и вечность чисел и идей у пифагорейцев и Платона, не утверждается как «факт мира», она вытекает из той же задачи: понять мир и каждую существующую вещь в их определенности. Таким образом, неизменность формы также открывается мыслящему только в контексте конкретного события: восприятия отдельной вещи, смысл которой необходимо выявить. Поэтому необходимость утверждения каких-то «отдельно существующих» форм здесь отпадает: только сталкиваясь с конкретностью и текучестью материальных вещей, я – в качестве противовеса этой текучести – открываю для себя понятие формы. «Поэтому, – замечает Аристотель, – очевидно, что “формы, как причина”, – некоторые обычно так обозначают идеи, – если допускать известные реальности помимо единичных предметов, во всяком случае, нисколько не пригодны для [объяснения] процессов возникновения и для [обоснования] сущностей; и по крайней мере ради этих целей нет основания принимать сущности, существующие сами по себе»58.
Разумеется, каждое из этих понятий – «число», «эйдос», «идея», «форма», «сущность» – отличается и друг от друга, и от самого себя (в учениях различных мыслителей и даже в разных текстах одного и того же мыслителя) множеством смысловых оттенков. Для нас, однако, самым важным является тот единый смысл, который и позволяет рассматривать эти понятия как выражения одного и того же: задачи о-формления, определения (о-пределивания – В. С. Библер) всего существующего в мире, основой которого выступает неопределенное Единое. Идея – то, на чем (или чем), в буквальном смысле слова, держится любая существующая вещь и мир-космос в целом, и именно поэтому никакие компромиссы в деле выявления идей (форм, сущностей) невозможны. Вопрос «Что есть (нечто) само по себе?» есть в определенном смысле вопрос жизни и смерти (бытия или небытия) этого «нечто». Иными словами, событие мысли, в котором вместе воспроизводятся идея и мыслящий эту идею, есть одновременно и событие рождения «того, о чем мысль»: задаваясь вопросом (и отвечая на него) «Что есть прекрасное, справедливое, истинное и т. д. …», мыслящий дает осуществиться тому, о чем он спрашивает. Выявление, прояснение смысла той или иной идеи, при том, что оно никогда не может быть окончательным, должно быть тем не менее предельно последовательным, ведь от этой последовательности, собственно, зависит ни много ни мало, как степень бытийности «того, о чем мысль»: неопределенность, изменчивость материи всегда сохраняет угрозу уклонения от смысла, а значит прекращения существования вещи именно в качестве определенного «нечто».
Так в зависимости от идеи, в свете которой она мыслится, одна и та же вещь может оказаться предметом обихода, произведением искусства, частью имущества, имеющей определенную ценность, наконец, просто физическим телом, препятствием, на которое я могу наткнуться, и т. д. И всякий раз мое отношение к этой вещи будет определяться тем конкретным «есть» (той идеей), которая открывается мне в событии встречи с вещью. Именно поэтому мышление как искусство отличать одну вещь от другой оказывается здесь таким важным. В платоновском диалоге «Софист» это искусство описывается как способность «различать по родам» и определяется как «диалектика»: «Кто… в состоянии выполнить это, тот сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие отличные друг от друга идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Все это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим], насколько нет»59.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Книги похожие на "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Е. Бакеева - Введение в онтологию: образы мира в европейской философии"
Отзывы читателей о книге "Введение в онтологию: образы мира в европейской философии", комментарии и мнения людей о произведении.