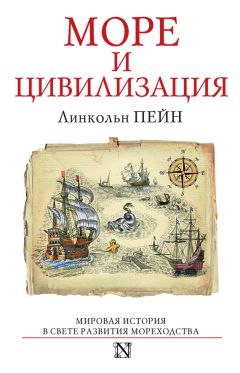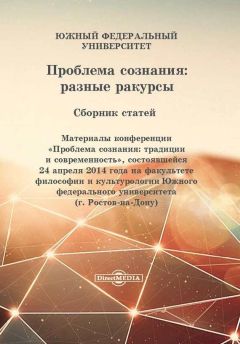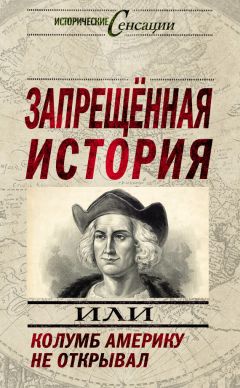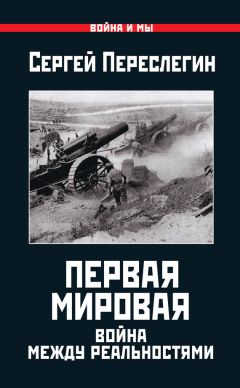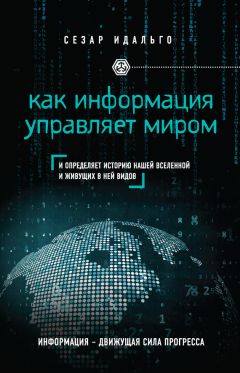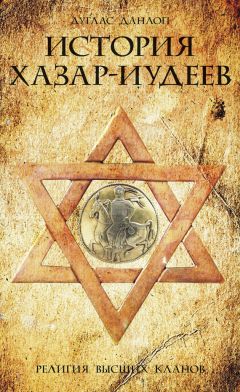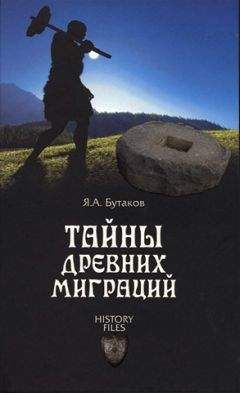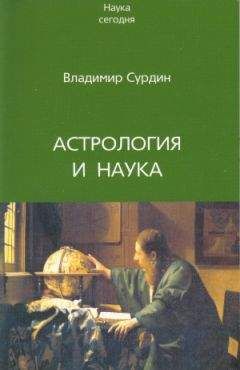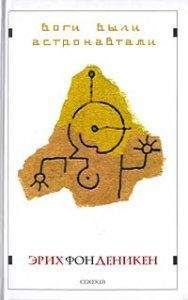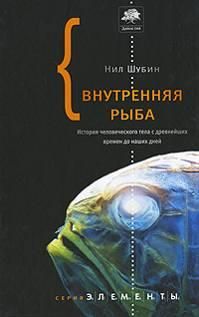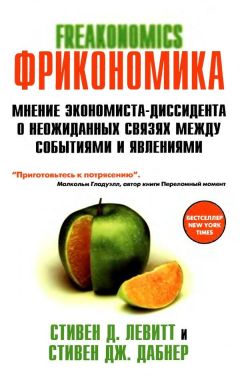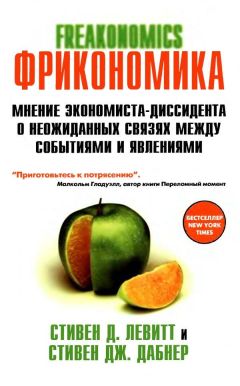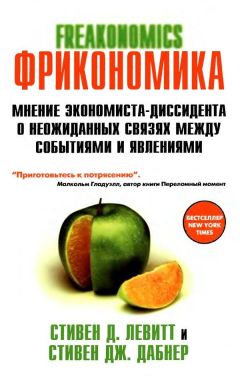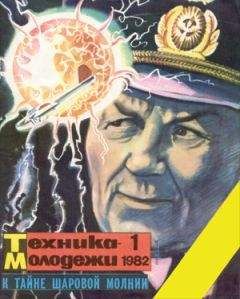Анатолий Ахутин - Поворотные времена. Часть 1
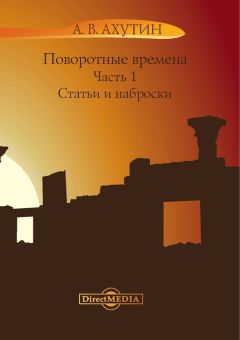
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Поворотные времена. Часть 1"
Описание и краткое содержание "Поворотные времена. Часть 1" читать бесплатно онлайн.
Тексты, составляющие предлагаемый сборник, появлялись в разные времена. Собраны они вместе, поскольку так или иначе оказались тематически связанными заметками и набросками, – попытками уловить смысл поворотности разных исторических времен, эпохальных рубежей: между греческим мифом и «логосом», между античным и средневековым миром, между «старым» и «новым» в эпоху коперниканской революции, наконец, между бывшим и наступающим ныне… Что наступает – неясно, а потому и неясно, что же, собственно, исчерпывается, заканчивается: иудеохристианский бог или европейский рационализм, техническая цивилизация или языческая почвенность, то ли сама история, то ли, напротив, метафизика, сковавшая историю. Неясно даже то, сходится ли, наконец, разноязыкий мир в универсум некой всеобщей цивилизованности или, напротив, преодолевает (тоже наконец) глобалистский логоцентризм и разбегается по ментальным резервациям. Что на горизонте – в семирный полис, этнический зоопарк или война всех против всех?
4.2. Искусство незнания 26
Признаемся, если мы вообще еще имеем в виду Сократа, то говорим уже не о Сократе Ксенофонта и даже не о Сократе платоновской «Апологии». Пожалуй, здесь к делу будет еще иметь отношение Сократ из платоновского диалога «Теэтет», который исследует саму идею знания. Часто говорят, что вопрос в «Теэтете» остается открытым. Ho он не остается открытым, он впервые открывается: пройденный путь упирается в апорию. Ho смысл апории и ее нешуточная апорийность могут быть открыты, понятны только собеседникам, прошедшим этот путь. Трудность оказывается апорией – непроходимой, – только когда доказывается, что она необходимо непроходима. Развитые по ходу исследования, логически развернутые и до тонкостей продуманные теории знания оказываются для философа формами развертывания, углубления, логической артикуляции исходного вопроса. Это умудрение в недоумении. Лучше сказать, не недоумение, а изумление (изумиться собой – своему умению разуметь – может только ум, мыслящий себя в целом, на своих пределах, в целостной архитектонике, в своей логике). Такова природа того удивления, которое, по Платону и Аристотелю, образует начало философии, начало не только во времени, но в принципе27.
Что следует оставить всякую надежду измерить диагональ и сторону квадрата общей единицей, знает только геометр, потому что это теоретический факт. Только пифагореец, для которого все сущее есть сущее, поскольку определено числом, т. е. мерой, способен усмотреть в этом математическом открытии онтологическую проблему. Апории, связанные с понятием предела и движения, которые рассматривает Зенон-элеец и затем Аристотель в «Физике», воспринимаются обыденным здравым смыслом как софистические фокусы. Нужно развернуть определенную логику разумения, чтобы уразуметь изумляющую непреложность такого рода апорий. Только следуя Пармениду, ощутив деспотические объятия его Ананке-Необходимости, можно было вновь удивиться бытию, мышлению и слову с той умудренной проницательностью, которой отличается Чужеземец из Элеи в платоновском «Софисте». Философия Платона не просто теория идей (если о таковой вообще допустимо говорить), а умудренное этой теорией – в этом смысле теоретическое – знание о невозможности идей (ср. апории «Парменида»), Точно так же кантовские, например, антиномии вразумительны только тому чистому разуму, архитектонику которого Кант детально развернул в своей «Критике». Они суть антиномии этого самого чистого разума, а не: «Отвечай, Алешка! Есть Бог или нет Бога?!»28. Философия Канта опять-таки не теория научного разума, а критика его, т. е. а) открытие неразрешимого «спора разума с самим собой», ведущегося в самих основаниях научного метода, и б) развертывание самой формы научного разума как формы строгого, определенного – принципиального – разумного незнания.
Словом, философию можно понять как искусство умного изумления.
4.3. Родовспомогательное искусство
На воле, в родной стихии досужей беседы Сократ определяет свое дело иначе, чем на суде. Или поясняет нам с иной стороны смысл искусства вопрошания и незнания. В «Теэтете» Сократ сравнивает философствование с повивальным искусством своей матери Фенареты. Как бабка-повитуха, слишком старая, чтобы рожать самой, умеющая, однако, помочь другим разрешиться от бремени и оценить жизнеспособность новорожденного, так и он, Сократ, не рождает уже знаний, идей, теорий, доктрин, учений и потому не может ничему такому научить. He имеет он-де заранее никаких теорий, ничего не знает ни о знании, ни об уме, ни о едином, ни о мире, ни о чем другом. He знает и все тут. Ho может помочь другому разродиться мыслью, которою тот чреват (если, конечно, чреват), и, главное, испытать новорожденную на жизнеспособность, состоятельность.
Вот, стало быть, в чем искусство сократического вопрошания обретает свое настоящее дело: не разоблачать мнимую мудрость, а помогать мысли родиться, вос-питаться и стать на ноги. Какой мысли, о чем мысли? Может быть, о добродетелях, об идеях, началах и причинах, субстанциях и энергиях, – ведь мы ведем речь о философии? Нет-нет, мы этого вашего ничего не знаем, мы заботимся только о том, чтобы мысль, о чем бы она ни была, хоть о домашнем хозяйстве, была мыслью состоятельной, жизнеспособной, как здоровый ребенок, выходящий в мир. Все, что мы узнаем, мы узнаем не от мудрецов, знатоков и ученых, и расскажем мы по ходу дела не наши домыслы и убеждения, – все, что мы узнаем и расскажем, мы узнаем только от нее, от самой мысли, ею же каждый из нас уже как-то располагает, только не обращает на это внимания. Мы узнаем все от самой беспризорно шатающейся в нас мысли (припомним в ней), если, конечно, позаботимся о вей, поможем обрести свою форму, родиться на свет и самой стать плодной, самостоятельной, одновременно и нашей, ибо мы ¢6 сами родили, ни у кого не заимствовали, не взяли на веру, не вычитали, не зазубрили, – и – независимой от нас, стоящей на собственных ногах. Вот что вроде бы говорит нам Сократ своим Сравнением.
На первый взгляд маевтический метод Сократа кажется только удачным педагогическим приемом. Ученик усваивает знания Лучше, когда учитель помогает ему самому дойти до них. Кроме того, он при этом обучается самостоятельному мышлению, т. е. просто мышлению, потому что никто не может думать за другого.
Ho кажется, «прием» этот имеет прямое отношение к продуктивному мышлению вообще и к философскому – в особенности. В самом деле, нельзя ли представить себе любое размышление, понимание, познание, решение – любое событие мысли – как роды, когда ты сам себе и Теэтет и Сократ, и родительница и повитуха, и юнец, мучающийся мыслью, и старец, помогающий мысли родиться и испытывающий ее. В конце концов, что происходило в голове Платона, когда он сочинял «Теэтет»? Что происходит с нами, когда мы его читаем со вниманием, наедине с собой, в молчании?
Положим, так мысль и происходит везде, где она происходит. Чем же отличается собственно философская мысль? Может быть, только тем, что в философии мы сосредоточиваем внимание прежде всего на этом самом: как мысль происходит, как она вообще может происходить, как она может стоять на собственных ногах, существовать сама собой, сама по себе, как бы без меня (не быть только моим мнением), оторваться от пуповины моих внутренних подразумеваний: верований, пристрастий, очевидностей, корыстей. Сосредоточиться на чем-то, что само должно допускать возможность сосредоточиться, а не расплываться. Стать. Стать знанием, истиной, открытием того, о чем, к чему, ради чего мысль рождается, происходит. И что вообще значит, что имеет место нечто такое, как мысль! Что это за событие в мире? Что, собственно, происходит? Ближайшим примером такого исследования может служить сам диалог Платона «Теэтет», где Сократ и рассказывает о своем повивальном искусстве как раз перед тем, как приступить к делу29.
И мы уже, не правда ли, сами чувствуем, как втягиваемся в воронку затягивающих в себя непривычных размышлений. Какие-то собственные или по слухам известные ответы навертываются на язык, какие-то призраки толпятся в уме, какие-то зачатия («концепты» по-латыни) произошли, эмбрионы возможных «концепций» о мышлении и бытии просятся на свет. Впрочем, все, сказанное в предыдущем абзаце, страдает мучительной неопределенностью. Перечисленные через запятую, будто бы однородные части, стороны вопроса требуют уточнений и различений, которые могут оказаться столь принципиальными, что запятые придется заменить на разделительные «или» и разные стороны вроде бы одной проблемы окажутся путями, расходящимися в разные страны и эпохи. Например, продумывать возможность мысли, исходя из возможности бытия того, о чем она возможна, решать, как может быть одно многим и многое одним, – особое дело. Так мы пойдем путем Платона и античной философии в целом. Продумывать возможность знания, определяя, во-первых, условия его независимости от нас (стало быть, в зависимости от нас), условия его, как говорят, объективности и, во-вторых, условия его идеальности, т. е. отличия от той реальности, на которую знание остается познавательно направленным, – дело другое. Так мы пойдем путем Декарта, Лейбница, Канта, т. е. путем новоевропейской философии.
И все же мы говорим об одном деле. He забудем: мы, если верить Сократу, не обращаемся к учителям и авторитетам, но только к мысли, к самой мысли, где зачинаются, рождаются и сообщаются все философские учения. Может быть, контуры этого общего дела философов обрисуются яснее там, где возможно их общение, на том перепутье, откуда расходятся их пути, иными словами, в самом начале этих путей, где они еще только возможны, где эти эпохальные концепции еще только зачинаются или вот-вот готовы родиться. Речь, разумеется, идет не об исторических обстоятельствах, а о том единственном «месте», где только и мыслима такая встреча: в мысли, в дебрях философских произведений, в частности в контексте того же «Теэтета», если мы сумеем ввести в эту беседу Аристотеля, Плотина, Ник. Кузанского, Декарта, Спинозу, Канта, Гегеля… Условие того, чтобы эти персонажи не передрались (все философы – люди), – одно: сократическая беседа «в мире и на досуге» в присутствии Сократа-повитухи.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поворотные времена. Часть 1"
Книги похожие на "Поворотные времена. Часть 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Ахутин - Поворотные времена. Часть 1"
Отзывы читателей о книге "Поворотные времена. Часть 1", комментарии и мнения людей о произведении.