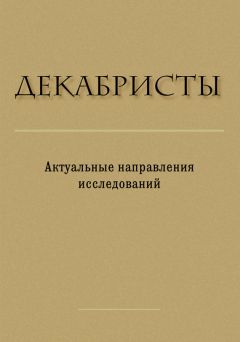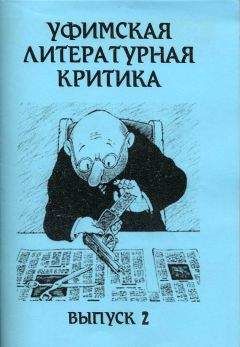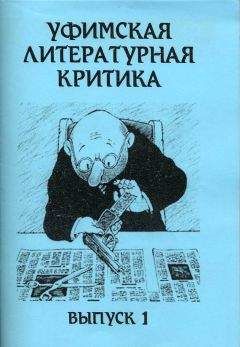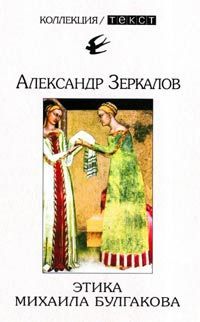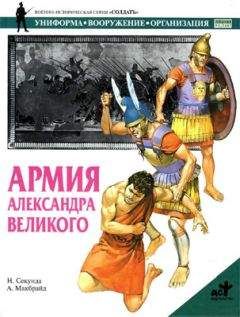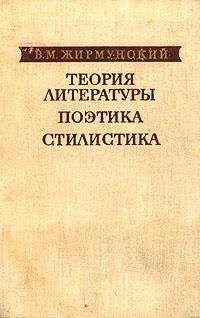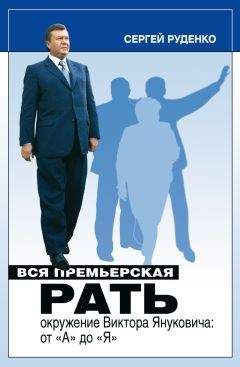Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Музыкальные истины Александра Вустиса"
Описание и краткое содержание "Музыкальные истины Александра Вустиса" читать бесплатно онлайн.
Книга «Музыкальные истины Александра Вустина» написана Д. И. Шульгиным – известным отечественным ученым и педагогом, профессором, автором статей, учебников и монографий, получивших заслуженное признание в нашей стране и за рубежом, в том числе таких, как «Годы неизвестности Альфреда Шнитке» (1-е изд. – 1993, 2-е изд. – 2004), «Теоретические основы современной гармонии» (1-е изд. – «Методические указания» – 1983–1984, 2-е изд. – Учебник для музыкальных вузов и колледжей – 1993), «Пособие по слуховому гармоническому анализу» (1-е изд. – 1991, 2-е изд. – 2007), «Признание Эдисона Денисова» (1-е изд. – 1998, 2-е изд. – 2004), «Жизнь – творчество Виктора Екимовского» (в содружестве с музыковедом Т. В. Шевченко – 2003), «Современные черты композиции Виктора Екимовского» – 2003). Эта книга продолжает серию ранее опубликованных Д. И. Шульгиным музыковедческих исследований в жанре «монографических бесед» и посвящено творчеству Александра Кузьмича Вустина – одного из наиболее ярких и талантливых российских композиторов нашего времени, его общественной жизни, взглядам на различные аспекты музыкального искусства, на творческую деятельность отдельных отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей. В книге представлены подробные анализы А. К. Вустиным собственных сочинений, его позитивные и критические оценки этих сочинений, подробно рассказывается об истории их создания, о первом и последующих удачных или, напротив, не всегда удачных исполнениях и многом другом. Вся книга написана на основе материалов, взятых из эксклюзивных бесед ее автора с Александром Кузьмичем Вустиным, проходивших на протяжении многих лет, начиная с 1998 года.
И вот так сложились три пьесы для одного состава под общим названием «Ноктюрны. И уже они были поставлены в концерт, как вдруг в какой-то момент меня осенило, что средняя часть, которую я вот назвал комплементарной по технике, она, где-то в точке золотого сечения, в кульминации дает возможность выхода на голос. Именно такой голос, какой был у моего сына. Это дало эффект поразительный. Произведение сразу для меня поднялось на целую планку, потому что без голоса это была какая-то просто импрессионистически расплывчатая, не очень конструктивная вещь. А я не люблю писать такую музыку. Но так уж сложилось. И тут она вдруг словно оправу приобрела – когда этот голос вошел! Это было потрясением для меня, и, насколько я заметил, и для других это было чрезвычайно важным моментом.
– А какие еще ваши сочинения связаны с такими Юриными способностями?
– Вот та же «Соната для шести» (это, кстати, было еще задолго до «Ноктюрнов»). Юра тогда буквально сымпровизировал третью часть к этой «Сонате…» (вообще-то в ней две части, так он еще сымпровизировал и третью).
– Он ее наигрывал на чем-то?
– Нет, только насвистывал, точнее пел в предельно высоком регистре. Вообще-то Юра был тогда как своего рода «человек-оркестр».
Или вот у меня есть такое двухчастное сочинение – «Голос». Так это по сути не мое сочинение, а Юрино, в котором я только принимаю участие. А как я его записывал? Я снимал нижнюю крышку пианино, он становился коленками на педаль и оказывался таким образом перед некой арфой или лирой, если хотите. Микрофон же я ставил вовнутрь пианино и записывал. При этом Юра задевал и отдельные струны, и пел, и ударял по деревянным частям инструмента. В общем, играл как Пекарский17(я потом одну такую запись покажу вам). Я не хочу преувеличивать значение этой работы, но в одном случае она для меня стала все-таки очень серьезным композиторским явлением. Лично я совсем не склонен к импровизации и не умею вообще импровизировать, но в данном случае, когда я сел за инструмент и вместе с сыном что-то начал играть спонтанно, то эта ситуация оказалась очень благодарная – я почувствовал, что я знаю, что нужно делать. И в какой-то момент полностью своими клавишами включился в Юрину импровизацию, а он стал, в свою очередь, реагировать на то, что делал я. Например, я брал аккорд, и он тут же отвечал на него (по-своему, конечно), потом был некий переход, и он смодулировал во вторую часть сочинения, которая в результате оказалась вариантом первой, но как бы сжатым. В общем, это было поразительно! Пересказать очень трудно. Получилась композиция, которая в смысле формы даже превосходит мои некоторые более рациональные сочинения…
– А позже18я уже написал специально сочинение как бы в благодарность тому, что я взял у Юры Оно называется «Посвящение сыну. Это маленький концерт для флейты и ансамбля из девяти человек. Десятый – дирижер. И флейта исполняет Юрину «роль» в этом сочинении.
– Очень нежная музыка.
– Да! И там прекрасная виртуозная первая часть, правда, с моментами «остранения» вдруг ближе к концу. И во второй части, если говорить о каких-то связующих арках, есть арка с моей консерваторской Симфонией – во второй части.
– Когда вы работали на Радио, у вас была возможность свободно общаться с тамошней библиотекой?
– Естественно. На Радио была потрясающая фонотека. Там был такой человек Добрынин Вадим, безвременно умерший, который работал в отделе зарубежной музыки, так он, как редактор, очень много способствовал обновлению этой фонотеки. Правда, не столько фондовой, сколько врéменной записи. (На Радио были фондовые записи под литером «Д» и записи под литерами «В» и «ПВ», которые хранятся только 5–6 лет, но практически могут храниться сколько угодно.) И там же, кстати, были записи зарубежных булезовских фестивалей. А Булез ведь замечательный дирижер! Он, в частности, играл нововенцев, как никто другой. Еще там были и редкие записи Ксенакиса, каких-то его ударных композиций. И вот в то время я как раз и познакомился с «Лулу» Берга. И было еще одно важное событие тогда же – это памятная лекция Тараканова.
– Что за лекция?
– Видите ли, я в тот период уже работал в Литдраме музыкальным редактором. А в музыкальной редакции на Радио работала Галина Константиновна Зарембо, которая создала «Панораму оперы ХХ века». И через эту ее панораму еще в 1970-е годы прошла вся современная опера, включая и Берга естественно, как одного из классиков (уже тогда это было понятно). И вот Тараканов сделал замечательный текст об этой опере. Но главное, конечно, что при всем этом было исключительно совершенное исполнение Бема с Фишером-Дискау и с какой-то поразительной Лулу. Эта вещь потрясла меня просто. Сказать бледнее нельзя. Она буквально меня потрясла! Передо мной вдруг раскрылись какие-то особые возможности. Совершенно новые! И возник вопрос: как писать теперь и можно ли вообще игнорировать то, что происходит?
– Странно, что у вас выход на эту музыку произошел только после консерватории.
– Мне самому странно, как я был консервативен до этого – академичен и консервативен такое длительное время. Я не могу, конечно, сказать, что до такой уж страшной степени был академичен. Нет! Мне, конечно, нравились и Шостакович, и Малер, и Прокофьев и другие. И их я не могу назвать академическими композиторами. Но, вместе с тем, был какой-то барьер за ними. Ведь уже тогда звучали и молодой Денисов, и Волконский, и многие другие. Но для меня это все в то время оказалось за барьером, хотя и было интересно, безусловно интересно как профессионалу.
– Скажите, а не были ли вы тогда слишком послушным студентом-композитором?
– Нет! Я просто не был радикальным студентом. Понимаете? Я был не то что слишком послушным – я был сам по себе, вероятно, то есть не любил вообще идти по течению, и не важно какому – радикальному или академическому. Я вслушивался только в то, что мне лично интересно. Вот, например, был период увлечения Хиндемитом на первых курсах консерватории, а потом это увлечение куда-то исчезло. Период не то что абсолютного увлечения, но Хиндемит меня очень интересовал. Мне очень тогда нравились его «Художник Матис» и симфония «Гармония мира». Я даже восторгался открыто ею. А раньше (у Фрида) было аналогичное открытие для себя «Музыки для струнных…» Бартока. Я бы даже сказал, что меня интересовали тогда не столько имена, сколько произведения. Какие-то произведения. В то время как раз появились во множестве зарубежные чешские и немецкие записи. И я помню хорошо, как, например, мне и Виолончельный концерт Хиндемита с Тортелье очень понравился, и нововенцы (но они для меня, правда, позже появились). Наверное, у меня не было тогда ни склонности, ни возможности к систематическому прорабатыванию того или иного нового стиля, и вот это, скорее всего, было плохо.
– Вы посещали студенческие кружки, НСО?
– Нет. Я и здесь был сам по себе.
– Почему же так?
– Ну, может быть, в силу своей постоянной скованности какой-то. Потому что я, скажу вам откровенно, стесняюсь немножко людей. Хотя сейчас из-за редакторской работы научился себя перебарывать. Но мне иногда и позвонить было кому-нибудь тяжело – все равно как поднять гирю стопудовую. Вот каждый раз, когда тому же Денисову или еще кому-нибудь нужно позвонить, так я должен сначала почему-то походить по квартире. Жена говорит: «Ну, что ты боишься, он же тебя не съест»19. А я говорю: «Не могу». И, вы знаете, это длительное время было. Я ведь не был ни в одном НСО.
– Но вы должны были как-то «показываться» в консерватории?
– Я не помню, чтобы я участвовал со своим опусами в НСО.
– Ну, тогда остаются только одни зачеты и экзамены?
– Выходит, что так. Причем, даже в училище я показывался на каких-то концертах чаще, чем в консерватории. Еще я помню отдельные свои показы в Доме композиторов. Были и разные композиторские встречи у того же Фрида, но для меня спорадические, не регулярные. Так что, повторяю, я нигде не был частью какой-то постоянной группы.
Я сейчас вспомнил, что еще намного раньше, скорее всего, в начале 1960-х годов, был и на прослушивании «Сюиты зеркал» Волконского. Но тогда до нее я явно еще не дошел.
– «Не дошел» – в смысле не дорос?
– Нет! Она меня не объяла как бы. Понимаете? Я даже повел себя как-то так самоуверенно: прослушал и вышел. Ребята там оставались, наверное, и разговоры были. А я вышел. То есть явно был момент юношеского такого «фанфаронства». Не потому, что я был консерватор, академист какой-то. Нет! Но мне хотелось, чтобы я только через себя все пропускал и к чему-то приходил или должен был идти только сам, а не через атмосферу такого дружеского группового энтузиазма. Но это, кстати, пришло и ко мне, правда, позже, когда я уже вступил в Союз композиторов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Музыкальные истины Александра Вустиса"
Книги похожие на "Музыкальные истины Александра Вустиса" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса"
Отзывы читателей о книге "Музыкальные истины Александра Вустиса", комментарии и мнения людей о произведении.