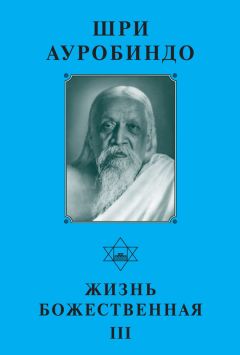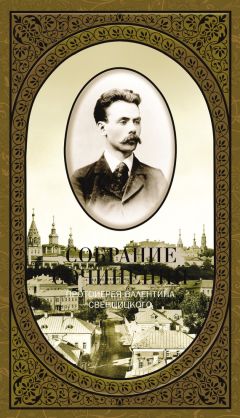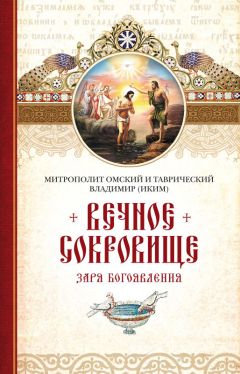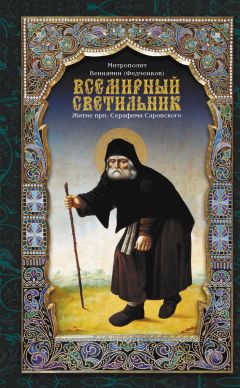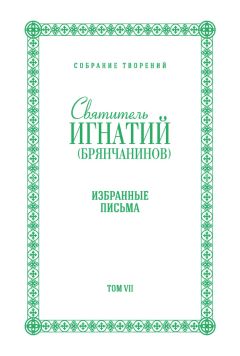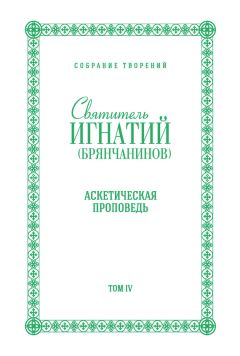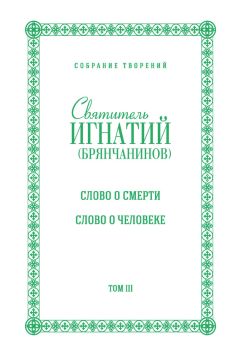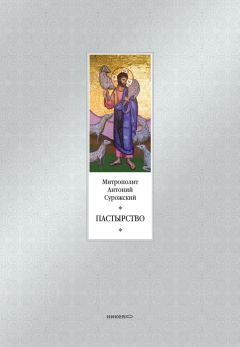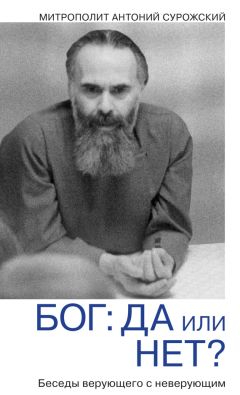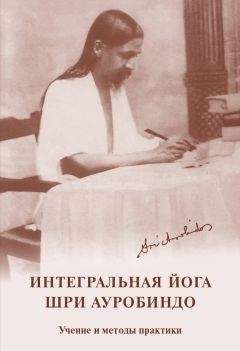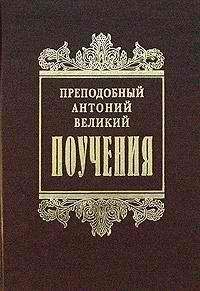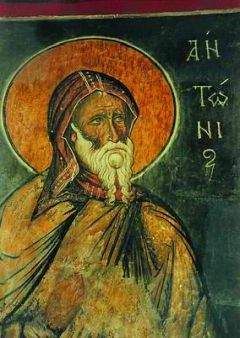Митрополит Антоний (Храповицкий) - Собрание сочинений. Том II
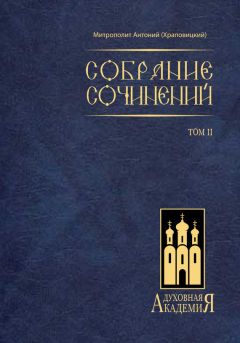
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Собрание сочинений. Том II"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.
Во второй том Собрания сочинений митрополита Киевского и Галицкого Антония (Храповицкого) (1863–1936) вошли его статьи, выступления и проповеди полемического, догматического и наставительного характера, посвященные самым разнообразным темам и событиям, главным образом вопросам нравственности и духовной жизни.
II. Остается только недоумевать, как могли люди, сохраняющие хоть каплю здравого смысла, искать подтверждения своим воззрениям в такой Книге, которая вся проникнута отрицанием таких воззрений и утверждением воззрений противоположных. Единственный возможный и, думается, вполне справедливый ответ на подобный вопрос, обращенный, в частности, к толстовцу, можно будет найти, возвратясь от его эсхатологических идей к нравственным и психологическим воззрениям его основателя, так как по отношению к последним буддийская эсхатология нашего писателя является действительно неизбежным выводом, который ему и приходится примирять с Евангелием всеми неправдами, раз он вообразил, будто его мораль совпадает с заповедями Спасителя.
«Считать себя отдельным существом есть обман. Исполнять волю этого отдельного существа – значит идти в бездну греха». Но если моя воля есть святость и любовь ко всем? Этого автор не считает возможным.
И в этом-то, а не в другом чем заключается существенная разность его жалкой морали от христианской. Христианство зовет личность к борьбе со злом, ей присущим, и к оживлению в себе «нового человека» (см. Кол. 3, 10), а Толстой и его тюбингенские и необуддийские единомышленники оставляют человеку его ветхое стремление к наслаждению и счастью, его эгоизм, стараясь лишь изменить направление обнаружений последнего, предполагая, что действительное освобождение от себялюбия невозможно. Воля каждого существа, гласит их философия, есть воля себялюбивая, стремление к наслаждениям. Поэтому, пока любое существо будет считать себя отдельным, оно будет, подобно разбойнику Кандате, искать только своего отдельного счастья в ущерб счастью других. И если «мир ему кажется разрезанным на отдельные личности», то он не может и благотворить другим. Задача учителей мудрости в том только и состоит, чтобы убедить человека в призрачном значении личности, в пантеизме, в учении о переселении душ, о временной посылке каждого человека в форму его теперешней личности. Все эти идеи и проповедует нам писатель в своих философских и литературных произведениях, повторяя свое нелепое, но излюбленное выражение: «я послан в жизнь», которое он святотатственной рукой похитил из учения Господа Иисуса Христа о Своем предвечном и личном пребывании со Отцом, Уготовавшим Ему славу прежде, чем явился мир.
Не себе только, а даже и русскому мужику, умирающему на морозе, автор влагает в уста это нелепое для обыкновенного смертного выражение вместе с фаталистическим равнодушием к содеянным в жизни грехам, равнодушием столь невероятным в сознании даже наихудшего представителя русского народа, живущего и даже, можно сказать, дышащего скорбным покаянием.
Но возвратимся к различию себялюбия от самоотречения по Толстому. Мы видим, что воля всякого существа есть воля себялюбивая: разница между темным грешником и истинным философом заключается лишь в том, кого считать своим я, этой-де единственно возможной целью своих стремлений и своих наслаждений: себя ли, взятого отдельно, или то неведомое пантеистическое целое, которого частью оно служит? В первом случае появится враждебность ко всему, во втором – толстовско-буддийская добродетель. Итак, переход от одного способа жизни к другому не есть нравственный подъем, не есть то действительное, евангельское отвержение от себя, о котором столь некстати для себя вспомнил переводчик «Кармы» в своем предисловии, – нет, это есть чисто теоретический акт, совершенно подобный тому, как если неумеренный сластолюбец, замечая в состоянии своего здоровья пагубные следы страстных излишеств, начинает предаваться порочным удовольствиям с более осторожной расчетливостью, нисколько, однако, не поправляя своих преступных склонностей, а только предпочитая их продолжительность в своей жизни слишком частому повторению порочных наслаждений. Так и обращение себялюбца к толстовской и буддийской святости не есть перемена настроения, это тот же эгоизм, но расширенный в силу теоретического расчета. Понятно теперь, почему евангельский призыв «Покайтеся» наш писатель в своем «Неделании» переделал в «одумайтесь», разъясняя при этом, что вся задача человека – в этом теоретическом проникновении пантеизмом, плодами чего будет необходимая перемена его поведения из враждебного ко всем в дружественное. Это-то исключительно теоретическое различие между понятием о порочном и добродетельном человеке и было соединено в первых богословско-философских произведениях автора с тем заблуждением, будто человеческая воля есть непременная выразительница идей его рассудка, во всем повинующаяся последнему, что добродетель есть знание, а зло – незнание или ложное знание. Отсюда его отрицание свободы воли и понятие о святости как необходимом следствии правильного мировоззрения. Совершенно так же рассуждают и тюбингенцы-гегельянцы. По этому воззрению, энергия воли может стремиться только к одному – к исканию своего счастья; разница между наилучшим и наихудшим человеком только в том, как понимать свое счастье, т. е. собственно самое – то свое, свое я. Иисус Христос, по их учению, понял свое тожество с пантеистическим божеством, с мировым целым, и вот, те же мотивы, которые неразумного грешника понуждают грабить встретившегося на пути купца, с такой же неизбежной необходимостью понудили Его идти на смерть за свое учение. Само учение Христово в том будто бы и состояло, чтобы научить людей фиктивному значению их личности и истинности пантеизма. Тщетно вы бы стали дополнять приведенные изречения Господни о будущей жизни напоминанием других Его изречений о совершенно свободном, личном Его решении идти на спасительную – и притом только трехдневную смерть, столь ясно раскрытым в словах: Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее (Ин. 10, 17–18). Это ли речь о нирване, о безличном исчезновении в целом, об искании своего блага во благе всех? Не подобны ли сему изречению в смысле нашего ниспровержения толстовского необуддизма и все те многочисленные речи, в которых Христос Спаситель говорит о Себе, о Своем Лице как Спасителе мира и людей всех поколений, о пребывании в Нем всех хотящих жить и творить плод в сей жизни (см. Ин. 6, 15), о том, наконец, что и сама смерть Его не будет прекращением Его жизни как жизни личной, но, напротив, причиной привлечения к Нему всех живущих. Но можно ли убедить псевдорационалистов евангельскими изречениями, когда они спокойно отказываются верить в их подлинность, лишь только вам удастся убедить их в совершенной несообразности тех перетолкований слова Божия, какими они старались дотоле прикрыть свои измышления?
* * *III. Итак, если они отрекаются от Евангелия, обратимся к их непосредственному, нравственному сознанию. Неужели невозможны самоотвержение и всякого рода добродетель для человека, считающего себя свободной и вечной личностью? Или недостаточно ясно показано, что Спаситель, апостол Павел (см. 2 Кор.) и все столпы христианской добродетели считали себя такими? Неужели совесть наша не соглашается с божественными словами Павла: и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13, 3)? Итак, видишь ли, что не степенью самоотвержения, хотя бы даже и свободной, а степенью чувства любви измеряется добродетель? А если в любви, а не в теоретическом расширении своего отвлеченного «я» заключается положительное содержание добродетели, то согласись и с тем неотразимым психологическим фактом, что любовь как живое чувство возможна лишь до тех пор, пока я и себя, и любимых противопоставляю взаимно как самостоятельных личностей. И если б мне показали человека, чуждого страсти и все делающего для блага ближних, но не по свободному проникновению любовью, а вследствие необходимого подчинения его воли теоретическому, ясно сознанному предпочтению общечеловеческого эгоизма своему индивидуальному (хотя, повторяю, такого человека нет и быть не может), то я бы ничего кроме негодования и сожаления не испытал при виде его. Самый последний злодей, но хотя однажды испытавший чувство свободной любви при ясном противопоставлении себя своему ближнему, был бы выше такого себялюбца: пора понять ту простую истину, что себялюбие от братолюбия различается не столько по предмету (объекту) симпатии, сколько по сопровождающему настроению, совершенно противоположному в братолюбии сравнительно с эгоизмом, хотя бы расширенном на весь мир. Первое настроение нежности, второе – холодного, сухого расчета, где цель деятельности бывает лишь доставление наслаждений и борьба со страданиями, как это и выходит по сказке «Карма», принцип которой: «служить каждому человеку так же, как вы желали бы, чтоб вам служили» – вовсе не обещает просветления человечества ни чистотой, ни вообще нравственным, одухотворяющим содержанием, а в своем применении в седьмой заповеди приведет к самым нежелательным последствиям. Иное дело подобные же слова Евангелия, где целью братолюбия является не наслаждение, а нравственное благо, чистота, истина (см. Мф. 10, 34–39). Таков первый отличительный признак для нравственной оценки, второй же заключается в свободе человеческих настроений, без которой самый героический подвижник в наших глазах ничем бы не отличался от манекена, воспроизводящего движения самоотверженного Аристида или Иоанны д’Арк. Но вы спросите: неужели же для пантеистов и прочих отрицателей свободы чувство любви невозможно? На это отвечу: конечно, невозможно, но прибавлю, что последовательный пантеизм сам по себе невозможен для человеческого духа, почему и на практике теоретический пантеизм и все эти мечтательные нирваны не оказывают на жизнь своих европейских последователей никакого влияния, нисколько не выводя их из самолюбивой замкнутости и той «отъединенности», на которую всегда указывал Достоевский в типах современных теоретиков – искателей «объединения». И если буддизм мог вызывать аскетическую энергию у своих азиатских последователей, то лишь в том смысле, чтобы эгоизм чувственный заменять эгоизмом духовным, т. е. сатанинской гордостью, которая еще более чужда любви, нежели чувственность плотского человека. K счастью, в своей январской статье «Противоречие эмпирической нравственности» и сам Толстой сознается, что самоотвержение буддизма есть лишь расширенный эгоизм. Эту фразу мы радостно приветствуем, находя в ней новое доказательство тому, что искренность еще настолько сохранена нашим писателем, что понуждает его говорить против своих прежде проповеданных идей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"
Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Митрополит Антоний (Храповицкий) - Собрание сочинений. Том II"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.