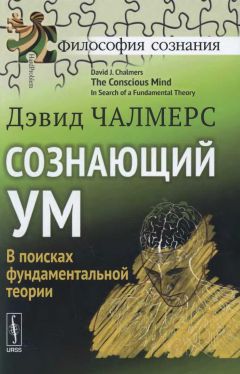В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Описание и краткое содержание "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать бесплатно онлайн.
В монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с философией истории. Что такое история и историчность, что значит помнить и традировать смысл, в чем онтологическая особенность прошлого, каковы структуры мифологического сознания. Предлагается оригинальная трактовка роли другого (других) для истории, решается извечная проблема взаимодействия мира и сознания. Впервые вводится в философию концепт анцестральной памяти, восстанавливается в своих философских правах старинное понятие судьбы.
Но – и в этом примечательный парадокс любого историцистского, генеалогического дискурса – никакое априори не может быть при этом задано формальным, аксиоматическим образом, индифферентным к сути выводимого из него опыта; их сращённость должна быть таковой, чтобы предположить априори как исток и предначало, каждое обращение к которому было бы органической необходимостью проверки исторического опыта на присутствие исторического смысла. В свою очередь, такой – «проверенный» – опыт уже не может ограничиваться простой фактической конечностью своей эмпирической данности, но включает в себя и некую попытку ноуменального интуирования, тем, конечно, более успешную, чем строже соблюдаются требования сохраняемых в этом опыте априорностей. Иными словами, начало истории – это, ко всему прочему, ещё и история начала; а историчность как обладание опытом истории – это в тоже время и сверхопытное усмотрение её трансцендентального смысла. Чем же тогда должны быть такой опыт и такое априори? Что может быть расположено на оси «история-сознание» так, чтобы стала возможным имманентная импликация смысла и, тем самым, легитимация всех тех концептов и идей, которыми мы до этого как бы пользовались в долг, заимствуя то ли из предшествующей традиции, то ли из тематически близких регионов? Нам кажется – а это и будет, собственно, главной задачей и темой предлагаемого исследования, – что в качестве вышеобозначенного опыта следует рассмотреть память, а в качестве априори – прошлое (точнее, прошлых других). Но если само собой разумеется, что эта память и это прошлое, какими бы они ни были, непременно характеризуются как «исторические», то объём этих понятий следует определить более точно и недвусмысленно. Ведь память, как и прошлое, может быть рассмотрена с двух крайне проблематично совместимых друг с другом позиций: психологической, усматривающей в памяти некоторую нетвёрдую фиксацию личной истории каждого из нас, а в прошлом – динамическую сумму наших же воспоминаний, высказываний, мнений, так или иначе ассоциируемых с тем, что когда-то было с нами, и трансцендентальной, представляющей память в качестве способности связывать ретенциальные и интенциальные окрестности точки «Я» и, тем самым, выполнять в темпоральном смысле то, что в пространственно-апперцептивном плане выполняло у Канта трансцендентальное воображение. Всеобщий характер такой памяти позволяет в данном случае говорить о её принципиальной независимости от моей личной истории и предполагать её в качестве основания для анализа памяти коллективной, несобственной, анцестральной. Тогда претендующее на априорность прошлое должно быть усмотрено как онтологический горизонт Живого Настоящего трансцендентального сознания, как то, что абсолютно отлично от текущего модуса его бытия и не может быть отменено или снято в силу своей абсолютности. В философии известны две такие принципиальные онтологические пары: «бытие-небытие» и «бытие-становление», наложение которых друг на друга однозначно отмечает соответствие небытия и становления: «становящееся ещё не есть». Однако, эта во многом формальная импликация не должна приниматься во внимание там, где становление есть имманентное бытие сознания, а небытие того, что было, есть, тем самым, подлинно неизменное бытие: было, значит, уже не может не быть. Таким образом, если психологическая интерпретация памяти и прошлого, игнорирующая любое априори, а точнее, признающая за таковое только индивидуальное бытие, явно недостаточна для наших целей, то трансцендентальная интерпретация, будучи взята феноменологически как метод и герменевтически как императив, вполне способна привести нас к искомому единству опыта и априори, которое есть, как уже можно догадаться, память прошлого.
Это сочетание не является чем-то уточняющим относительно самой памяти, как будто возможна ещё и память будущего, не является и определением того особенного и даже может привилегированного доступа к прошлому, который даёт память по сравнению с историческим познанием (археологией, источниковедением, изучением ментальностей и проч.). Всё это ещё очень зыбко и будет по возможности проясняться далее; здесь нам следует лишь отметить, что онтологически память прошлого есть бытие-память; нерасчленимый концепт памяти-прошлого есть столь ещё загадочное для самой истории понятие историчности.
Итак, вопрос по всей видимости ставится так, что мы, сегодняшние, должны спрашивать себя же о нас, вчерашних. Это самое вопрошание, если оно стремится достигнуть самых начал, в какой-то мере свидетельствует о нашей историчности, то есть о некоторой связи истории и сознания. Без этой связи нетрудно объявить или историю недействительной2 или сознание внеисторичным3; с ней можно осуществить важное отождествление сознания истории и истории сознания. Последнее будет означать, что горизонты нашего сознания не исчерпываются наличным и текучим бытием, к которому в некоторой вариативной фантазии мы могли бы пристегнуть абстрактные «возможностные миры»; это также будет означать, что всякая проблема сознания есть по существу историческая проблема, скрывающая в себе собственные исток и смысл, обращение к которым и окажется путём её описания. Можно сколько угодно спорить, есть ли у человека особый «орган» истории, или чувство, или интуиция, но то, что таковым для прошлого является и всегда будет являться память, сомневаться не приходится. Поэтому в качестве ключа, отпирающего дилемму «история-сознание», мы совершенно вправе испытать историчность, понимаемую через память-прошлого, или точнее, через несобственную память о несобственном прошлом. Задействуемый при этом концепт другого призван укротить эту двойную несобственность в рамках трансцендентальной феноменологии и антропологического трансцендентализма.
Почему другой – эта относительно новая для западной философии онтологическая категория, однако уже успевшая стать чуть ли не визитной карточкой её современной, постмодернистской стадии4? То, что другой постоянно и опасно балансирует на грани между Другим (с давних пор известным как Бог, а затем принимавшим форму Государства, Дикаря, Сообщества) и людьми5 (ставшими слишком заметными в последний век «масс и толп»), и то, что эта неуверенность определяет амбивалентность любого о нём дискурса, есть вещи настолько известные и знаковые, что едва ли стоит их здесь подробно озвучивать; однако мы всё же намерены сделать противостояние «я-другой» более ясным и оформленным. Для этого мы и будем мыслить другого как прошлого другого, а прошлое, соответственно, как прошлое (бытие) другого. Иными словами, другой-в-прошлом это и есть само прошлое – как то, что было до меня, не со мной и не моё. Однако оно было, и в этом заключается неотменяемая данность другого, данность, разумеется, не наличная, как если бы этот другой стоял сейчас передо мной, требуя, вопрошая или приказывая, и мой отношение к этому могло бы свестись к известной экзистенциальной проблеме выбора, условно обозначаемой дилеммой «друг-враг». Настоящих (современных) других я могу выбирать, и именно поэтому они не могут быть настоящими (подлинными) другими; эти же – вне моей компетенции, моей симпатии или выбора. Метафорически мы существуем в параллельных вселенных: я настоящий, они прошлые, я есмь, они были, я становлюсь, они уже-есть. Вдобавок, то, что является неопределённым пространственным парадоксом, вполне определено темпорально: я в конце истории, они в начале6. Поэтому тот самый онтологический разрыв, который разделяет меня-настоящего и других-прошлых, и есть степень несобственности моего знания о них, других, которое я предлагаю отождествить с исторической памятью.
Тут возникают два достаточно разноплановых вопроса: какой интерес мне в прошлых других, коли они натурально мертвы и всего лишь были когда-то; и в какой степени несобственное знание о других, неважно каким образом оно может быть получено: аналогией ли, аппроксимацией или прямым усмотрением, оправдано называть памятью, коя ведь всегда ассоциировалась с воспроизведением живого опыта индивидуального субъекта? Конечно, в этом опыте я обязательно имел дело с другими, сейчас необратимо прошлыми, но ведь речь идёт, как постепенно становится понятно, о том сонме других, что никогда не были и не могли быть по причине своей темпоральной удалённости объектами моего живого опыта. Речь, стало быть, идёт ни много ни мало о некоем мнемическом апокатастазисе, воскрешении и удержании в памяти всех прошлых, чьё неотчуждаемое бытие-было только одно способно придать реальный вес и объём моему проблематичному становлению-сейчас. То, что это именно так или должно быть так, будет являться второй главной задачей настоящего исследования, задачей-максимумом, разрешение которой напрямую зависит от того, какой предстанет перед нами история без покровов анархии и провиденциализма, история с точки зрения историчности. Такая история будет интегрирующей от всей суммы прошлой жизни, жизни прошлых других, и её реальное воздействие на моё незавершённое бытие будет определяться тем импульсом, которым она сумеет отодвинуть пределы моей завершённости, сиречь конечности. Ещё раз: единственное, на что может и должна быть способна история, понимаемая как сумма памяти прошлого, это диверсификация моего бытия-становления, бытия, обременённого будущим. Неснимаемое прошлое, только и могущее наделить меня неопределимым будущим – такой археофутуризм позволит нам, современным, быть не броуновскими молекулами, хаотично сталкивающимися и разбегающимися, но сообществом «разных и непохожих», которые, однако, по крайней мере одно дело должны делать вместе: помнить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Книги похожие на "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания"
Отзывы читателей о книге "Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания", комментарии и мнения людей о произведении.