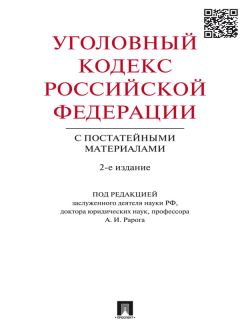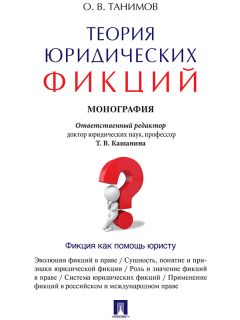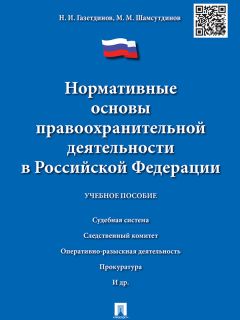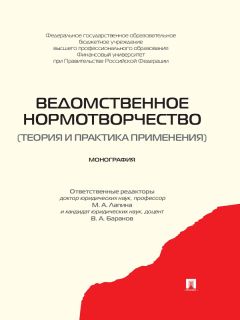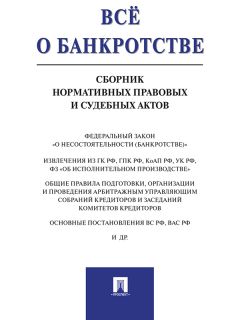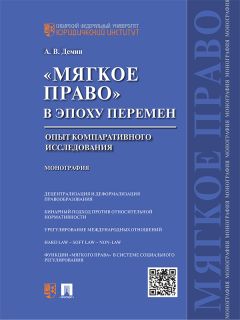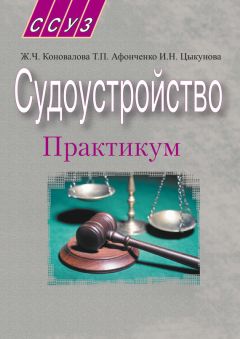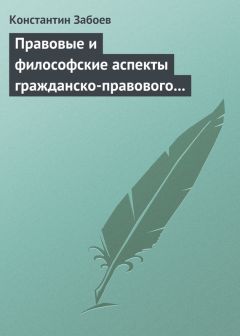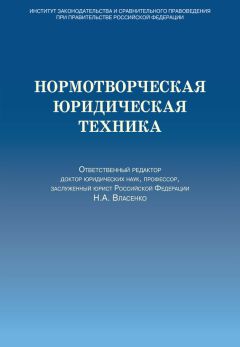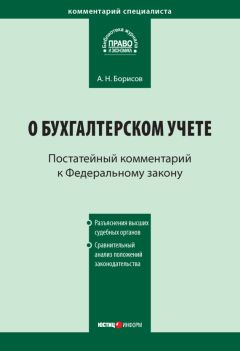Александр Петров - Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография
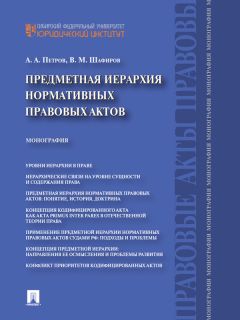
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография"
Описание и краткое содержание "Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена исследованию предметной иерархии нормативных правовых актов. Рассматривается понятие предметной иерархии нормативных правовых актов, история ее возникновения как приема правотворческой техники и осмысления юридической наукой; демонстрируются трудности практического применения предметной иерархии и предлагается новый (с акцентом на содержательные стороны феномена) подход к прочтению ее сути. Адресована юристам, историкам, философам и всем, кто интересуется проблемами теории права.
Относительно данной ситуации в литературе не прекращается спор, можно ли называть действия в такого рода случаях правотворчеством, хотя в отечественной теории права преобладает позиция непризнания аналогии права правотворчеством. Достаточно аргументированной представляется позиция о том, что, аналогию права можно рассматривать как пример исторической фикции. Так, С. А. Муромцев при изучении фикций в римском праве считал их «наиболее юным видом аналогии»[118]; аналогичная мысль встречается у И. И. Аносова[119] и других правоведов. При этом суть фикции такова: правоприменитель считает, что новые жизненные обстоятельства охватывались законодателем при формулировании правовых норм. Однако если при аналогии закона судье нужно лишь применить уже существующее правило к непредвиденным ситуациям, то при аналогии права он должен это правило сформулировать самостоятельно, опираясь на юридические принципы и иные нормативные обобщения (цели, презумпции, дефиниции)[120].
В этой связи очень интересен подход Г. Кельзена, который писал, что «подлинные пробелы не существуют», поскольку «лакуны такого рода означали бы невозможность разрешить юридического спор в соответствии с действующими нормами в силу отсутствия в статуте правила, относящегося к этому делу, что исключает его применение»[121], ибо в правовой системе существует и функционирует «принцип, согласно которому при отсутствии обязанности выполнить действие или воздержаться от него субъект свободен. Это и является той негативной нормой, которая применяется в решении об отклонении требования поведения, не установленного как обязательного.
Однако если в некоторых случаях говорится о «пробеле», то это не означает (как может ложно подразумевать это понятие) отсутствия логического решения из-за неимения нормы. Наоборот, имеется в виду, что решение… хотя и является логически возможным, воспринимается правоприменителем… как слишком непрактичное или несправедливое… и он склонен предположить, что законодатель не предусмотрел этот случай вообще, а если бы он это и сделал, то разрешил бы дело иначе, а не так, как это указано в законе». Поэтому, как пишет Кельзен, «так называемый «пробел», следовательно, представляет собой не что иное, как различие между позитивным правом и системой, которая считается лучше, справедливее, вернее. Только сопоставляя «лучшую» систему с системой позитивного права и тем самым устанавливая недостатки последней, можно утверждать о чем-либо вроде «пробела»… Толкование здесь служит не для того, чтобы осуществить применение толкуемой нормы; напротив, интерпретация в данном случае необходима для устранения юридического правила и его замены на норму, которая лучше, справедливее, вернее – вкратце, речь идет о такой норме, которая нужна правоприменителю. Под предлогом того, что исходная норма дополняется с целью компенсации своих недостатков, она изменяется в процессе реализации и замещается новой. Эта фикция особенно полезна тогда, когда законодательный пересмотр общих норм в силу каких-либо причин затруднен или невозможен…»[122].
Юридическое и политическое значение данной фикции для Кельзена заключается в том, что конструкция фикции преодоления пробела в праве сама по себе является механизмом ограничения свободного усмотрения правоприменителя и его реальной власти игнорировать общие правила[123].
Тем не менее, даже при таком подходе остается стоящая перед судьей ценностная проблема, которая, как пишет А. Н. Верещагин, «состоит в том, что судья, решающий «трудное дело», которое не регулируется ни законами, ни прецедентами, тем не менее должен подчиняться праву. Теоретически последний ресурс, к которому он может прибегнуть – это… сочетание идей справедливости и должного поведения, которое разделяется данным сообществом»[124]. Другими словами, судья должен найти в иерархии социальных ценностей, отраженных в праве, такую которой он сможет для себя лично и для юридического сообщества либо иной инстанции обосновать принятое решение по делу.
Вместе с тем, следует отметить, что иерархические связи между сущностно-содержательным уровнем права и уровнем формы права так ярко и однозначно проявляются достаточно редко, поскольку, как правило, при отсутствии «трудных дел» их опознание в рутине юридической повседневности требует значительных интеллектуальных усилий, волевых качеств и определенного морального мужества правоприменителей.
1.10. Иерархические начала в форме права
Представителями отечественной юриспруденции сформулирована и обоснована плодотворная идея о необходимости разграничения внутренней и внешней форм права: первая рассматривается как система права данного исторического типа и позволяет раскрыть внутреннюю организацию нормативно-волевого содержания права; вторая же указывает на способ внешнего выражения, оформления такого содержания и выступает формальным критерием опознания права среди иных социальных регуляторов[125].
1.10.1. Иерархия описания в построении системы права
С точки зрения характера существующий связей в структурной организации внутренней формы права, на наш взгляд, можно говорить о существовании иерархии описания между нормативно-регулятивными средствами, институтами, отраслями права и иными различными «по масштабу» структурными элементами системы права.
Система права строится по принципу многоуровневой, иерархически организованной пирамиды: лежащие в ее основании нормативно-регулятивные средства объединяются в правовые субинституты и институты, те – в подотрасли и отрасли права, которые (в свою очередь) в т. н. правовые общности (массивы), и, в органичном единстве, составляют саму систему права; причем каждый нижестоящий уровень системы права находится в отношениях субординации с вышестоящими и на каждом вышестоящем уровне возникает качество эмерджентности.
В этой связи спорным представляется тезис В. А. Толстика относительно иерархических свойств системы права, утверждающего, что в случае иерархии в системе права «речь идет не о силовом подчинении соответствующих структурных элементов, а о зависимости, подобной той, которая положена в основу построения, например, классификатора правовых актов»[126]. Действительно, организационная иерархия не характерна для различных элементов системы права. Однако приведенное сравнение, во-первых, некорректно с точки зрения сущности сравниваемых систем – система права все-таки по своей природе объективна и характеризует реальные явления и процессы, происходящие в праве, а классификатор правовых актов есть своеобразная идеальная матрица для «подгонки» конкретного акта под определенный критерий, установленный (причем с существенной долой субъективизма) для системы источников права; во-вторых, неверно с точки зрения общего понятия иерархии: иерархичность в системе права проявляется в субординации между выше- и нижестоящими элементами в описании указанной системы, но указанные отношения опосредованы сознанием человека и поэтому могут восприниматься обнаруживающим их субъектом как проявления собственного волевого акта, не имеющего прямого отношения к системе права. Например, когда для выяснения действий, необходимых для обжалования судебного решения о признании брака недействительным, обращаются к нормам гражданского процессуального права, а не семейного, констатируют, что институт обжалования в системе права иерархически подчинен отрасли гражданско-процессуального права и будут руководствоваться в своих дальнейших действиях по обжалованию нормами, принципами, презумпциями именно гражданского процессуального права, а не семейного.
Укажем, что множество исследований, посвященных выявлению «правовой природы» различных нормативно-регулятивных средств, субинститутов, институтов, подотраслей, отраслей права, направлены как раз на выяснение иерархических (субординационных) отношений между менее и более крупными элементами системы права. Делается это и с практической целью – понять, какой отраслевой (или иной по масштабу) режим действует на данном участке правовой реальности.
Более того, иногда и сами ученые, законодатели и политики открыто говорят об иерархических началах в системе права. В качестве примера можно привести уже упоминавшееся отношение господствующей правовой идеологии к соотношению частного и публичного права, национального и международного права.
Иерархия описания проявляется и при взаимодействии нормативно-регулятивных средств различного масштаба: так, как отмечает А. В. Демин применительно к принципам права, «общеправовые принципы конкретизируются и проявляются в межотраслевых, межотраслевые – в отраслевых, отраслевые – в специальных принципах»[127]. Взаимоотношения между общими и специальными нормами права также могут быть раскрыты в аспекте иерархии описания.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография"
Книги похожие на "Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Петров - Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография"
Отзывы читателей о книге "Предметная иерархия нормативных правовых актов. Монография", комментарии и мнения людей о произведении.