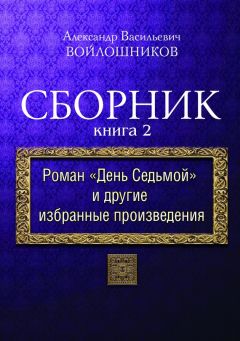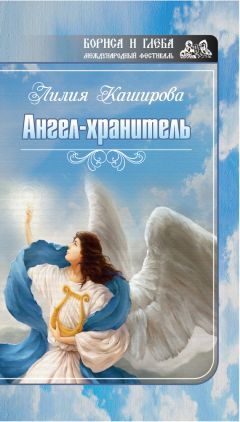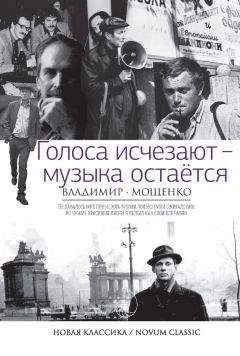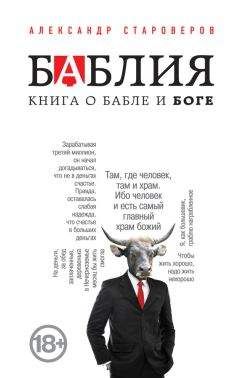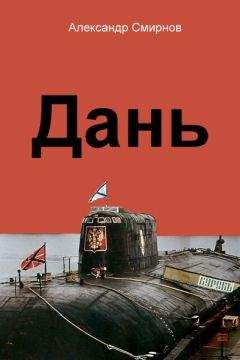Александр Мищенко - Саваоф. Книга 1
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Саваоф. Книга 1"
Описание и краткое содержание "Саваоф. Книга 1" читать бесплатно онлайн.
Роман «Спартак нашего времени» являет собой опыт реминисцентной прозы. Это роман об эпохе, о том, что Россия может «указать путь» миру, если станет страной востребованного интеллекта, когда открывают дорогу тем людям, которые способны видеть хоть немного вперед, как мыслил об этом Менделеев. Роман о сокровенно-личном, что пережито автором за 70 лет жития-бытия, о Сибири за фронтиром Урал-Камня, о России, о волновом Доме человечества. На обложке картина Симоне Мартини «Несение креста».
Саваоф теряться стал от этого трехбуквия – ЭВМ и всего пассажа Сени. М-да, это не трехсветильник со звездой голубой.
На лице Сени вспыхнул победный огонь: положил он старика на лопатки, прижал его так прижал.
Но для верняка в победе Сеня задал еще один вопрос:
– Что дает вера?
– Жизень оно, конечно, не продлишь, – рассудительно заговорил Саваоф. – Харчей с неба бог не кинет. Нет тут пустыни с сухариками. Что в огороде, в полюшке, то и в магазине.
Поток красноречия Саваофа стал иссякать.
– Так-то, дед, – заявил с победной миной на лице Сеня, – и сказать нечего. Не разводи в другой раз антимонии до высших экстазов. А свербит – попробуй сухари в печи сушить. Это здорово интересно. Мне, знаешь, твои тили-тили печенки пропилили.
Схватки с дедом-Саваофом на церковные темы случались у Сени не раз, и эта оказалась как бы венечной, будто на ринге встретился с ним молодой бедолага-сосед. И выиграл он бой. Не прошли даром ранешние тренировки. Подумал я тут чисто Авторски о другом Сене, тренере по боксу из спортивного клуба «Лайнес», к занятиям в котором пристрастился я на семьдесят пятом году жизни. Не новичком стал в зале бокса. Колошматил «груши», представляя в такие моменты лица жлобов, с которыми здорово измытарился, издавая свои книги. Так вот, тренируя своих питомцев, Сеня подсказывал походя мне: «Нарабатывайте кулаки, товарищ писатель, это очень полезно. Да бейте от подбородка с закруткой. Почему от подбородка? Всегда сможете отбить прямой удар в открытую челюсть». Я соглашался с тренером, размышляя о неистощимом коварстве жлобья всякого…
– Ладно, вострый ты на язык, Сеня, – примирительно проговорил Саваоф. Но с поражением он не смирился.
– А Иссарионыча ты знаешь? – вскинулся Саваоф. – Не-ет, не знаешь.
И Саваоф с удовлетворением оттопырил губу.
– То то ж. Он войну вынес… Такие трудности. Двести грамм хлеба и кружка воды несоленой счастьем были тогда, милый Сеня. Барду гнилую возили скоту со спиртзавода, высасывали из нее сочек, тем и питались. Чем скот, тем и люди. Такая жизень была.
– Ты, дед, в колхозе тогда работал или как? – учтиво, но затаенно меж тем спросил его Сеня: интересно было ему узнать, правду ли говорили старухи в Таловке, что был в свои годы Саваоф крепким единоличником, и может быть, и кулаком даже. Мироедом они его не называли, правда, но подчеркивали, что богато жил, ходил в лаковых сапогах, на сельскохозяйственных выставках в уезде премии не раз получал за образцовое земледелие. Жеребец Винзор у Саваофа будто бы на всю Россию славился. Заржет он, как лев, бывало, – на разъезде в пяти километрах слышно. Что «Авдотья моя» у Глеба Успенского, «горло у нея здоровое: как начала входить во вкус, горло-то драть… на пять верст слышно…» Золотую медаль в Новопокровске вручили за него хозяину и семь рублей. «Ох, и конь был, ох, и конишше, – говорила, покачивая головой, одна древняя, поросшая мхом старуха. – По всей России щетыре таких жеребца и нащитывалось. Красавец Винзор был, как паровоз идет, бывало, по улице. Щерт огненный, а не конь, ух, и силен был сатанюка!»
В этой части биографии Саваофа у Сени сомнений не возникало. Верил он в георгиевские кресты его, а в то, что был генералом – нет, ни в какую. Саваоф и генерал – нет, нет и нет. Рассказывали старухи, что люто ругался с Советской властью он за церкви, когда рушили их, что раскулачивали его, на Соловки ссылали и никогда в колхозе он не рабатывал, а шабашил на разных сезонных работах и мильен денег у него на книжке теперь и не истратит он их до смерти.
Саваоф потеребил раздумчиво крючковатый своей нос и ответил на вопрос собеседника кратко:
– Сам себе я был колхоз, Сеня.
И это была истинная правда. Одним колхозом со всевышним жил Саваоф, обделяя себя празднично-возвышенной радостью коллективного труда. Ему казалось, что жил для людей он, ради них нес свой крест. И чем больше страсть овладевала им, тем более яростной становилась его слепота.
Фразы одной, чтобы исчерпать тему, не хватило Саваофу, однако, и он продолжил:
– Так заколотилось сердце у меня, когда церкви, храмы божии разрушать стали. А кому церква не мать, тому бог не отец. Вот и встал я непоколебимо за веру Христову, скандалил с богоненавистниками яростно, как Аввакум. Помнить: я – скала, окруженная водой (Галина Вишневская). Биниалится призыв великой певицы со сказанным об апостоле Петре Христом, который нарек его «скалой» или «камнем», то есть Кифой. И пришлось побывать поэтому за горами хребетскими.
Жил в душе Саваофа с детства и другой, мирской бог, он не имел телесного лика, а был разлит в природе и сьединял Саваофа с нею. Это было то, о чем говорят в народе: «Человек рождается на труд». «Богу молись, а сам трудись», «Даровое на ветер, а трудовое в сок да в корень». Но председатель артели веры Всевышний пересилил гражданского бога, когда сошлись они биниально на жердочках мостка жизни Саваофа, и, живя среди людей, он как бы и не жил с ними, свой среди чужих, чужой среди своих.
В сознании Сени осела мысль Саваофа о храмах. «А сейчас их берегут, спохватились, что не ладно делали», – подумал он мимолетно, потому что сильно интересовало его сейчас другое: работал ли Саваоф в колхозе все-таки или нет? Этого пока Сеня не понял.
– Ты коллективизацию прекрасно помнишь? – хитро спросил он старика.
– Все-все, как тебя сейчас, – с задором ответил ему Саваоф. – Зрачочки твои с булавочную головку – булькнул даже дедок: кхе-хе-хе – На масленицу было у нас раскулачивание. Начали с Нехаевых, они колеса тележные работали.
– Как брат мой в Острогожске, – ввернул свое Сеня, – работает колеса велосипедные всему району.
Не мог не подумать он, конечно, о других братьях, о маме.
– Ну, да, транспортные мастера Нехаевы, – подтвердил Саваоф. – Как твой брательник – не знаю, а Нехаевы мастера-а-а были! И приказ поступил: кулацких детей отправлять вместе с отцами. А пурга страшная была, ветер с ног сбивал, светопреставление настоящее, земля с небом перемешались. И за шкирку выбросили сперва самого Нехаева. Дети, мелюзга, ухватились за шубейку его, ползут следом, тащатся как хвост. Вот мать родна, крестовая, не вру. Бабы завыли так жутко – волосы дыбом встают, пацанва кричит, стонет. За подобные именно зверства сибирские партийцы приговорили Сталина заочно к расстрелу. Факт это доподлинный. Обнародовал его в новой книге товарищ мой писатель Максим Осколков. «Знакомство с этой реальной историей удивляет и потрясает», – написал он. Случилось это, когда большевики Талицкого района Тюменского округа проводили партийную конференцию, связанную с первыми итогами коллективизации и обсуждением статьи товарища Сталина «Головокружение от успехов», в которой он громил зарвавшихся коллективизаторов. Какие зверства нужно было творить, чтобы в условиях тоталитарного режима власти люди решились на такое! Тут ядро мощной драмы, какую можно бы написать. По смыслу – это похлеще Тамбовского восстания. Гнуснейшее это преступление Ленина и его партии – стравить две части народа, как стравливали на арене Колизея людей и зверей. Как реплика в сторону: ныне, в ХХ1 веке, по сценарию из Вашингтона раздувают пожар вражды между славянами у границ России, и народ стреляет в народ, братья в братьев, устраивая зверства, каких не знали при Гитлере… Основной мотив выступающих участников: «Мы выполняли решение ЦК и все делали в соответствии с указаниями Генерального секретаря партии. Нас убеждали действовать напористо и решительно, говорили: «Не бойтесь перегнуть палку, мы вас прикроем», а теперь нас сделали козлами отпущения». И коммунисты были правы. Возмущение среди руководящих сельских партийцев было всеобщим. Что же касается товарища Сталина, то это был его коронный прием: отступить при неудаче, свалив собственные просчеты на «козлов», а потом снова идти в атаку, «закручивая гайки» до предела… За это в Зауралье и приговорили вождя к расстрелу…» И приговор такой был более чем справедлив. Поколение дедушек наших не даст усомниться в этом. Николай Михайлович Любимов (1912—1992), в частности – создатель классических русских переводов Рабле, Сервантеса, Боккаччо, Пруста, Мольера и Шиллера. Испил он чашу полную, когда «темный туман окутал умы» в стране Советов: к 30 годам он уже знал тюрьму, ссылку, бесприютность, скитальчество, постоянное опасение снова привлечь внимание НКВД… Так вот
Вспоминал Николай Михайлович, как в Великую субботу 1930 года задал себе вопрос: «Могу ли я простить Сталину человеческие страдания, которые я видел воочию? Могу ли я простить то, что он сделал с землевладельцами, с духовенством, с мастеровыми?» И уже тогда ответил на него: «Да, могу, но только ради „торжества из торжеств“. Всепрощающее величие истинно христианского духа мне недоступно. Пройдет праздничный подъем – и у меня уже не хватит сил перебарывать ненависть» (Т. 1, с. 223 воспоминаний Любимова «Неувядаемый цвет»). И эта ненависть время от времени прорывается: «Почему у большевистских главарей, за малым исключением, такой жуткий и такой богомерзкий внешний облик, в котором не чувствуется души (какая там душа!), в котором мелькает ум низменный, практический, циничный, и то не всегда, с каждой сменой кабинета все реже и реже, в котором нет ума светлого и высокого?» (Т. 2, с. 204—205). Думал Любимов и о неотвратимости возмездия – на том, да и на этом свете: «Ох и отлилась же кровь царевен, и далеко не только царевен, целым легионам большевистских бесов – отлилась каждому в свой срок, отлилась с избытком. И ждать им этого срока пришлось совсем даже недолго – не более двадцати лет! <…> Мне приходилось слышать такие речи: почему многое множество цекистов и чекистов было запытано и перестреляно, а Сталин отделался легкой смертью? (Своей или насильственной – судить не берусь.) Я на этот вопрос отвечал словами мамки Онуфревны из „Князя Cеребряного“, говорившего о Малюте Скуратове: – …этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле, его мука на дне адовом» (Т. 2, с. 188, 501). Думаю сейчас о раскулачивании, что постигло и мой род крестьян, столыпинских переселенцев на амурскую землю, о безвинно расстрелянном отце. Думаю и об иконно почитаемом мною Михал Михалыче Пришвине. Отчего о, глубоко страдая, ушел в природу, в леса, к ароматным лугам, усеянным цветами? От «отвращения к Октябрю». Путь, долг свой видел этот кудесник словесной живописи в том, чтобы своими книгами украсить путь несчастных, чтобы они забыли тяжесть своего креста. Так именно воспринимает Пришвина игуменья Феофила (Лепешинская). Прочувствованно пишет она в своей книге «Рифмуется с радостью» (размышления о старости): «Можно только догадываться, насколько иными и одинокими ощущали себя люди, рожденные в Х1Х веке, среди людей новых поколений, воспитанных в профанированной образовательной системе большевизма». И одна колхозная активистка, член комитета по раскулачке, не выдержала такого изгальства, подхватила, как кутят, трех самых меньших ребятенков, ангелочков безвинных под мышки и домой побежала. Утром приходят к ней: а-ааа, мол, кулацких детей приютила, стерва. Она как закричит на эту комиссию, с ухватом на нее бросилась: «Ах, вы шкуры, кровососы, разве такими совецкие люди должны быть. Эти ж дети пойдут совецкую власть защищать, а вы о каких-то законах мявкаете!». Какой тут закон, господи боже мой, если самый главный революционер страны дал отмашку на разбой в деревне: «Повесить, непременно повесить, дабы народ видел, не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать имена. Отнять у них весь хлеб. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте исполнение. Ленин». И неслось по стране эхо. Раскулачить!.. Сослать!.. За пропаганду контр-р-революционную… И сколько за этим драм – неисчислимо. И на Воронежской земле, и на Пскопкой, и на Сибирской. Товарищ мой детский поэт Саша Шестаков недавно поведал землякам в прессе, как погибла в результате этой встряски на колхозном скотном дворе его мама при каких-то туманно-загадочных обстоятельствах. Хранит память седого уже дедули вид притихшей печальной горницы и далее: «На нашей широкой софе стоял еще не занятый мамин гроб. Я, глупыш, не понимающий горя-беды, вскарабкался на него и принялся играть кудряшками свеже-пахнущих стружек. А взрослые, видя все это, рыдали…» Написал об этом и невольно подумал о буревестнике революции, который сам стал жертвой ее, в конце концов. Но в разжигании социального пожарчика тоже сыграл свою не последнюю роль. «Наши лозунги просты, – писал он, – долой частную собственность, все средства производства – народу, вся власть – народу, труд – обязателен для всех». Ну да, кто хочет жить, тот должен работать. Кто не хочет работать, может сразу ложиться и протягивать ноги. Даром кормятся лишь вши. Учтите, человеческие единицы. Но что это, горьковское? Можно по косточкам разобрать. Грабь награбленное, во-первых. Как разумел Алексей Максимович народное владение средствами производства? Что мы имели в этом плане при социализме, а тем более, когда получили в Перестройку ваучеры? Кто кого ограбил? И в мысли о труде звучит нечто казарменное вплоть до казарменной любви, конвейерных экстазов армейщины и том даже пленительном будущем, когда скорость извержения спермы сравняется со скоростью мысли. Во торсион, р-раз, и до окраин браны Хокинга. В фантазериях типа Троицкой-Купера можно прочесть об НЛО, являющем собой «материнский корабль». Это не то транспортное средство, на какое мастерили колеса Нехаевы. Они делали их для телег. А НЛО из космофантазмов похож на гигантский летающий город и может вмещать в себя сотни и даже тысячи более мелких, размером с бальный зал, летающих объектов. Освещенный на полную мощность материнский корабль сияет ярче, чем 10 тысяч солнц. Эти летающие объекты имеют громадные размеры. Существа с материнских кораблей больше похожи на нас, чем другие инопланетные существа, и ведут они войны с землянами. Во время разрушений существа, находящиеся на материнском корабле, «высвечивают» людей с высоким уровнем сознания, захватывают их лучом света и переносят на материнский корабль. И то и другое как раз и происходит мгновенно, со скоростью мысли… Прямое созвучие с вышесказанным открылось мне в интервью кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета родного мне МГУ им. М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Саваоф. Книга 1"
Книги похожие на "Саваоф. Книга 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Мищенко - Саваоф. Книга 1"
Отзывы читателей о книге "Саваоф. Книга 1", комментарии и мнения людей о произведении.