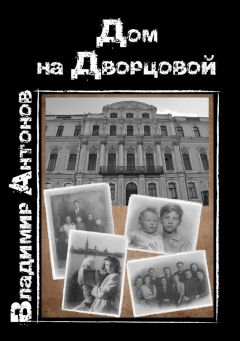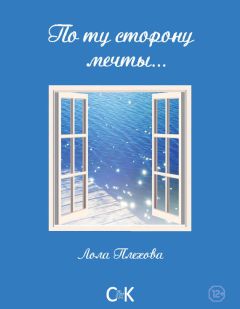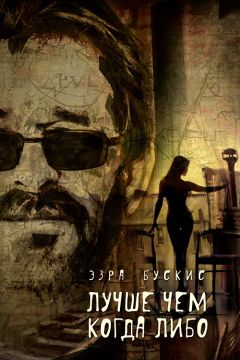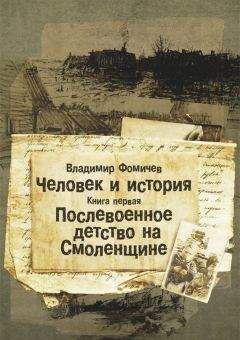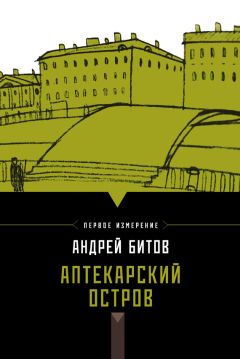Петр Смирнов - Ласко́во
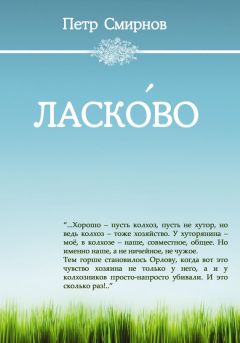
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Ласко́во"
Описание и краткое содержание "Ласко́во" читать бесплатно онлайн.
Ласко́во, с ударением на первое “о”, это название одной из псковских деревень. Её давно уже нет. Нет и многих людей, когда-то в ней живших, или что-либо о ней знавших.
Эта книга – воспоминания и размышления человека, который родился и вырос в Ласко́ве, а потом вместе с народом прошёл труднейшие годы коллективизации, войны, послевоенной колхозной жизни.
– Ты, сват, если что не так, меня прости. Прости, что в канун пришёл.
Дяде Мише, конечно, не по нутру гость не вовремя, однако ж обижать не хочет:
– Ладно, ладно, сват, закусывай.
– Спасибо, сват… А я и то подумал – ить мы свои.
Вошла Ксения с ведром и тряпкой.
– Ну, брат, угостился, теперь сходи погуляй, пока я пол вымою. И ты, тятьк, сходи куда-нибудь. Я скоро.
Дядя Миша и Ваня пошли в баню, а Андрей решил навестить и наш дом – как-никак тоже свои. Ведь Ваня – ему зять, а деду Лексею-то Ваня племяш, а Ваське – брат двоюродный. Как же! Свои-и!
Когда Андрей пришел к нам, мы с Митькой и тятяшей вернулись из бани. Туда пошли бабуша с мамой. Отец с нами в баню опоздал, на гумне задержался. Он решил идти мыться после всех.
А пока тоже посадил Андрея за стол. Ещё выпив, Андрей стал уже совсем хорош. Как и у Мишиных, не переставал повторять, что мы свои, хвалил и тех и этих сватов за гостеприимство, просил не судить его, что пришел в канун праздника. Отец осторожно намекнул было на то, что бабам в канун особенно много работы: и готовить, и убрать, и полы вымыть, и самим помыться.
– Да-а, сват, это пра-а-авда, – подтвердил Андрей. – Бабы и всё больше делают. А – только так и надо…
Немного закусив еще, Андрей вытер ладонью усы и бороду, усмехнулся и продолжал:
– А знаешь, сват, какое дело у меня было? По-свойски я тебе уже расскажу.
Не очень-то хотелось папаше слушать пьяные басни новоявленного “свата”, он уже посматривал в окно: не идут ли бабы из бани, однако согласился:
– Ну-ну, расскажи.
И Андрей рассказал.
– А вот, сват, натрепал я льна шесть головок и повёз этот лён в Морозы. Продал и… запил… Всё пропил! И лён… и армяк… А потом кобылу… и дровни… Пришёл домой пешком… И ни копейки денег…
– Ну, а дома-то что? – спросил папаша. – Это ж беда какая!
– Вот: беда! Беда!.. А ить Дуня-то мне слова не сказала. Мне! Жёнку-то мою, Дуню, знаешь?
– А как же? Знаю.
– Ну вот. Хыть бы слово!.. Рада, что сам пришел, во! А что всё пропил – ни слова… Во какая у меня Дуня!
– Наверно, сказать нельзя? – вмешался тятяша.
Андрей оживился:
– Нельзя! А ить я сам себя готов убить: подумать только! Считай, всё хозяйство решил. Хыть вешайся.
– Да-а, – покачал головой папаша.
Пришли бабы. Папаша сказал:
– Ты, Андрей Савельев, прости, а я схожу попарюсь.
– В байню-то? А знаешь, сват, и я с тобой… А то мне …не! А то тебе одному грустно… Ты одевайся, а я вперёд пойду.
Андрей встал, надел шапку и пошел за дверь. Пока папаша собирался, Андрей успел выйти за сарай и направился не в нашу, а в бобкину баню. Почему-то она не была истоплена в тот день. Может, на день раньше топили, или суббота была недавно.
И вот Андрей с пьяных глаз пришел в холодную баню, разделся и сел на полок ждать папашу. Папаша тем временем попарился и помылся в своей бане. Про Андрея, который ему не очень был и нужен, подумал, что тот ушел к Мишиным. Однако на обратном пути увидел следы на снегу, которые вели к бобкиной бане, и пошел по ним. Нашел одежду Андрея в предбаннике и, всё поняв, расхохотался.
Из бани, заслышав хохот, взмолился Андрей:
– Сва-а-ат, твою мать, горазд ты долго! Поддавай скорей, ить я замёрз!
Папаша просто зашёлся хохотом, когда голый Андрей, не веря, что он в нетопленой бане, никак не хотел слезать с полка и всё просил поддать.
Андрея согрели дома самогоном. Ночевать он ушел к Мишиным и там гостил весь праздник.
Смеялись долго.
Сельдишники
Сельдишниками у нас называли старьёвщиков. Иногда они появлялись и в нашем Ласко́ве:
– Эге-гей! Сам выхади, тавариша вывади, ко мне падвади!
Мы, мальчишки, первыми услышим и бежим в край деревни встречать сельдишника. Лошадь его понуро бредёт, не обращая никакого внимания ни на рой слепней, ни на истошный лай Мильтона. Сам сельдишник сидит на куче старых тряпок в передке телеги, дымит самой дешёвой папиросой под названием “смерть мухам”. Ноги поставлены на оглобли, в руках вожжи, поверх серой замусоленной рубахи надета старая-престарая чёрная жилетка. Лошадь будто знает мысли хозяина: в поле идет быстрым шагом, спешит, а как только въезжает в деревню – еле бредёт, дает возможность зазывать покупателей. Мы идём рядом с повозкой, но старьёвщик на нас ноль внимания, вынимает изо рта папиросу и кричит:
– Тряпки, кости, рукава от жилетки, шубные лепни́ (куски), кафтановы воротники – всё берём, селедку продаём, рассол даром даём. Эй, выхади, тавариша вывади!
Напротив матрёниного дома лошадь останавливается сама. Сельдишник слезает с воза, обходит его кругом, поправляет укладку, подтягивает ослабевшие верёвки. К возу одна за другой идут старухи – наша бабуша, тетя Фёкла, тетя Маша Бобчиха. Это – разведка: почём селёдка, почём крынка рассола, нет ли мыла или гребешка.
– Всё есть, бабки, всё! – отвечает сельдишник.
Старухи идут домой за тряпками, костями, а нас посылают в поле сообщить родителям, что приехал сельдишник. И вот возле телеги с бочкой собирается вся деревня и начинается торговля.
– А-а, ты мало навесил, – говорит Груня, – на нашем безмене больше, ей-бо!
– А иди ты со своим безменом! Деревяшка какая-то. Вот – законный безмен. Видишь, номера написаны – вот фунт, вот два, три, видишь?
У Груни, конечно, сроду не было никакого безмена. Он был лишь у нас, деревянный, старый, неизвестно кем сделанный. Им пользовалась вся деревня, когда надо было что-нибудь “прикинуть”. На отполированной многими сотнями рук поверхности были чуть видны вбитые гвоздики – пуд, потом фунты: тридцать, двадцать и десять. Надо, однако, сказать, что при взвешивании было полное соответствие с казённым безменом.
Груня, конечно, спорила потому только, чтобы побольше получить селёдочного рассола. Сдавать ей было нечего – откуда кости, если нет скота? Соберет фунтов пять тряпок – и всё. Много ли рассола на это купишь? Да и другие хозяйки редко покупали одну-две селёдки – не было на что. Довольствовались рассолом.
Нальет бабуша рассолу в чайное блюдце, а мы макаем туда хлеб и с преогромнейшим аппетитом едим его с горячей картошкой. До чего же вкусно!
– Бабуш, дай еще маленько.
– Полно, полно, а то обопьётесь и ночью описаетесь. Больше нельзя.
Уже позже мы стали понимать, что бабуша берегла рассол для тяжело работающих взрослых. Хлеб с пустыми щами или квасом каждый день – такая еда надоедала. А горячая картошка с селёдочным рассолом была в охотку. Один только запах селёдки с льняным маслом чего стоил!
Так что приезд сельдишника в деревню был вроде праздника. Любую работу бросали бабы и спешили домой перетряхнуть свои узлы с тряпками. К тому же не только бочку с селёдкой возили сельдишники. Были у них и мыло, и иголки, и нитки, и гребешки, и даже головные платки для девок и молодух.
С годами сельдишники появлялись всё реже. Их совсем не стало с ликвидацией частной торговли и созданием потребкооперации.
Сон
Шел 1918-й год. Бушевала гражданская война. Не всегда сознательно и не всегда по своей воле мужики оказывались мобилизованными – кто красными, кто белыми, кто зелёными.
В Ласко́ве только Сенька Макаров, муж Груни, оказался с зелёными. Наш папаша и Егор Бобкин, тогда еще холостые, были мобилизованы красными. Папаша в 1917 году жил в Петрограде, после октябрьской революции приехал домой, чтобы пережить смутное время в деревне.
На царскую службу призывали в возрасте 22 лет. Папаша от призыва в 1912 году был освобождён как единственный сын у родителей (был такой закон). Призыв на войну в 1914 году снова обошёл его стороной – его оставили, чтобы не порушить хозяйство (и такой закон был).
В Петрограде отец жил только зимой, чтобы заработать деньги для хозяйства да справить себе и сёстрам что-нибудь из одежды. Работал он на кожевенном заводе Брусницына (после революции – завод имени Радищева).
Летом 18-го года отряд красных, в котором оказался Василий Алексеев, стоял в деревне Вёска Новоржевского уезда. Двадцативосьмилетний Васька вместе с другими бойцами изучал военное дело, нёс караульную службу, чистил винтовку. Отряд, видимо, долго стоял в Вёске, потому что иногда Василия ходили навещать сестра Марфа и двоюродный брат Ваня Мишин. У девятнадцатилетней Марфы к тому же в отряде был знакомый.
Как-то раз объявили срочное построение:
– Стро-оиться! В одну шеренгу станови-и-сь!
Пока собирались и строились, рассказывал потом папаша, он не заметил рядом с командиром бабу, а увидел её только тогда, когда командир вместе с ней пошли вдоль шеренги и стали всматриваться в лица бойцов.
– Этот? – спрашивал командир.
– Не-е, – отвечала она.
Шли дальше.
– Этот?
– Не-е.
Бойцы стали переговариваться.
– Кого ищут?
– Свинью, вишь, у нее зарезали и унесли.
“Ну, меня это не касается”, – подумал Василий. А виновного продолжают искать. Подошли к Василию.
– Этот?
Баба смотрит, смотрит.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ласко́во"
Книги похожие на "Ласко́во" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Смирнов - Ласко́во"
Отзывы читателей о книге "Ласко́во", комментарии и мнения людей о произведении.