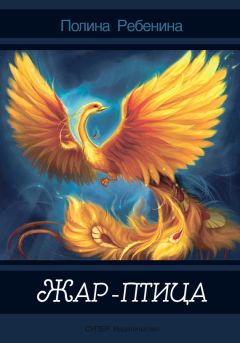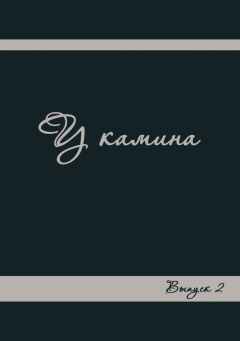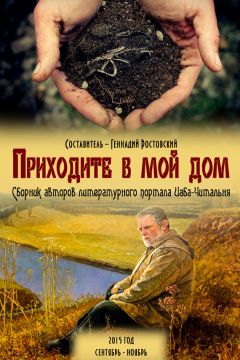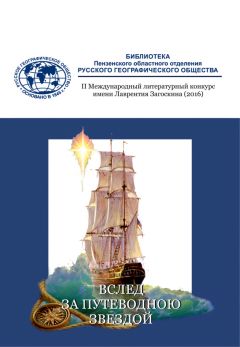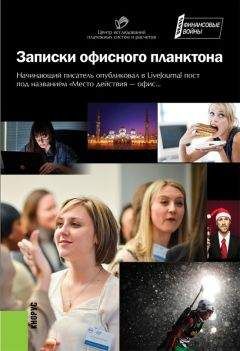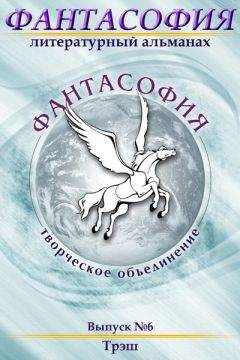Коллектив авторов - На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят"
Описание и краткое содержание "На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят" читать бесплатно онлайн.
Редкая по выразительности книга о русских писателях, которые верили, любили, творили. Авторы предлагают движение по незримой лестнице, ведущей на Олимп живого русского слова. По ней великие имена ушли в вечность, где нет первых и последних, а все равны и все одинаковы. Она написана лично для каждого, кто желает заново открыть для себя литературное наследие России.
Фауст у Гете, Раскольников у Достоевского, Екатерина у Островского – каждый по – своему идет, но преступает какие – то моральные нормы. Татьяна не идет на это – даже для своего счастья.
«Божественная» матрица, чистейшая в своей естественности, заложенная Пушкиным в образ Татьяны – это величественный монумент Женщине, сумевшей обуздать свои страсти. Ее фамилией поэт, может быть, даже и бессознательно, как бы подчеркнул в ей семейное начало. Лары – домашние боги древних римлян, боги очага.
Лев Толстой в «Анне Карениной» продолжил историю Лариной, однако проследил другой вариант этой коллизии (страсти и верности). Он как бы задался мыслью: а что было бы, если бы Татьяна поступила по – другому?
В другом произведении – в «Казаках» – Лев Толстой проследил и вторую линию в пушкинском творчестве – линию «ухода».
Поэта Пушкина – человека с необычными по силе страстями – давило общество, оно толкало его, выбрасывало из себя, наконец, привело к смерти. Мысль о возможности побега из общества, из цивилизации, от семьи, от государства всю жизнь преследовала Пушкина («давно, усталый раб, замыслил я побег»). Художник предчувствовал свой безвременный конец, что общество не даст дожить ему до глубокой и спокойной старости, что оно его задушит, «приспит» как мать ребенка. Он предугадал, на самом взлете жизни, личной и поэтической – увидел дуло пистолета: «Мне страшен свет» – горечь рвалась из него, как фонтан из подземного ключа.
Пушкин размышлял, искал пути и способы бегства, но брел в жизненном лабиринте, как в темном туннеле – не видел выхода: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет» («роковое их слияние» (доброго и недоброго) – чуть позже у Тютчева).
А может, сойти с ума? Тогда и спрос будет невелик за вольности и вольнодумства! Пушкин видит в этом один из выходов, сбросить с себя пыль раба, прикованного к «колеснице» света:
«Когда б оставили меня
На поле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду…»
«Да вот беда: – мыслит поэт, – сойти с ума, и страшен будешь, как «чума», и «посадят на цепь дурака», и «сквозь решетку как зверка дразнить тебя придут». Да, и это не выход.
По лермонтовскому выражению – «невольник чести» – утомленный почти военной дисциплиной высшего света, Пушкин готов был добыть волю даже ценою высшего, что он признавал в мире – разума. Невольник Приличий, понятия Чести, понятия Долга – он хотел только одного, он хотел Воли.
В отличие от Пушкина, надломленный морально, Лев Толстой все же дожил до старости, дожил в семье… но все – таки нашел силы для «ухода» от семьи, от общества, воплотив в жизнь этот пушкинский огненный мотив («…усталый раб, замыслил я побег»). И, как и Пушкин, далеко не ушел от себя – умер на полустанке.
***Духовная жизнь человечества обладает своей притягательной симметрией: поэты всегда существуют в двойном измерении – одному поэту противостоит другой как бы его антитеза. Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Некрасов, Фет и Блок, Есенин и Маяковский.
Пушкин – это непременно мера, гармония, то Лермонтов – это безмерность, диссонанс.
Если Демон пытается только смущать Пушкина, то у Лермонтова он есть ведущая сила, поводырь (пусть и невидимый, но всесильный и фатальный).
Если пророк у Пушкина готов «глаголом жечь сердца людей», величественен, и духом силен, и благороден, то у разочарованного Лермонтова пророк, наоборот, антипод – оплеванный, побитый камнями, как мелкая птица, «пробирается торопливо» незаметной сторонкой через «шумный град».
Пушкинский пророк – символ веры, демон Лермонтова – символ неверия и беспомощости.
Пушкин ввел Очарование, ввел Наслаждение. Лермонтов – разочарование, пессимизм.
***Пушкина влекла, притягивал фигура непризнанного, осмеянного Героя, не получившего при жизни признания, не понятого ни светом, ни толпой (словно списывал с себя!). Поэта занимала, интриговала фигура отвергнутого пророка. «Полководец» – не понимаемый, не оцененный современниками нравственный и духовный постамент народа:
«Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великою…
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твой священной сединой»
«Ты был непоколебим пред общим забужденьем» – в это видит Пушкин непреходящую ценность пророка, человека совести и стыда. Он через призму данного образа просвечивал себя; он видел в нем фигуру, равную себе.
Смелость говорить правду, руководствоваться внутренним голосом совести, а не шепотом и пересудами света – таков призыв Пушкина к герою.
Слушаться голоса Совести – это его, Пушкина, вера и его завет.
***«Моцарт и Сальери» – глубокое философское пушкинское произведение. В нем поэт, словно в пучок, собрал важнейшие философские проблемы.
Пушкин не просто ставил вопрос (первая задача художника), но давал и решение, давал по – сократовски, не подносил на блюдечке готовое, а исподволь подталкивал, подводил читателя к собственной мысли, чтобы тот сам вынес напрашиваемое решение.
Согласно библейскому мифу, первым убийством на земле было убийство из – за благодати небесной. Каин и Авель принесли жертву небу. Жертва Авеля (сноп пшеницы) был принята – огонь загорелся. А жертва Каина (козленок – здесь Каин выступил Гераклитовым демиургом, земным Зевсом, – был расценен как вызов богу) отвергнута. Каин убивает Авеля.
_________________________
Легенда о Каине и Авеле
После смерти Авель увидел Каина. Они шли по пустыне, и видно их было издалека. Они сели на землю, развели костер и согрели себе еду. Молчали, как всякий уставший после долгого трудного дня.
На небе зажглась еще одна, никем не названная звезда. Каин сказал брату:
– Прости.
– Я не помню уже. Мы вместе опять. Кто кого убивал, брат?
– Вот теперь ты простил меня, Авель. Забыть – это значит простить. И я постараюсь не помнить.
– Да, мой брат. Лишь пока вспоминаешь – виновен.
_____________________________
Сальери и Моцарт повторили эту библейскую историю. Сальери и Моцарт принесли жертвы искусству. Но жертва Сальери была не принята, отторгнута историей, людьми, Справедливостью. А на алтаре Моцарта загорелся огонь (та, пока еще никому не ведомая звезда), и Сальери произносит монолог, который можно было вложить в уста Каина: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Сальери, как и Каин, недовольный несправедливостью неба, убивает Моцарта, этого Авеля.
Пушкин воспринимает обиду Сальери, понимает. Но это не означает, что Сальери прав; Сальери – это развенчанный, сведенный к смертному греху, «богоборец», он – убийца.
И вот здесь, Достоевский, продолжая пушкинскую тему добра – зла, развил ее дальше. Он только поставил вопрос иначе: имеет ли право человек, опираясь лишь на свои, необузданные субъективные представления о должном, врываться в мир с топором? Имеет ли право частное, «земное двуногое творение», конкретный человек стать судьей и палачом своего ближнего?
Раскольников – это Сальери; его размышления близки размышлениям пушкинского героя. Только убитым был не гений, а убита была вредная и ничтожная старушонка. Вот в чем Достоевский идет дальше: убивать нельзя не только талант, но и любую «двуногую тварь». Нельзя отдельного человека делать судьей и палачом другого, слишком зыбко, расплывчато основание: личное неприязненное отношение.
И Пушкин, и Достоевский предупреждают – нельзя создавать страшный прецедент. Тем самым открываются шлюзы на пути слепого низменного чувства (зависть, тщеславие, корысть) – оно как раз и цепляется за соображения якобы высокого порядка.
Сальери и Раскольников – они оба убийцы из – за принципа, из – за безграничного теоретического посыла – они за справедливость: Бога нет, некому вступиться за справедливость, потому надо действовать самим («…правды нет – и выше» – заявляет Сальери; Раскольников тоже считает, что Бога нет). Ничтожная «старушонка – процентщица» и гений Моцарт перед их представляют одно и то же: и та и тот незаслуженно наделены судьбой, «жалкая старушонка» – богатством, «гуляка праздный» – талантом. Надо вмешаться, надо самому встать на место судьбы. И вот Раскольников поднимает топор, а Сальери наливает яд.
После совершения убийства Раскольникова испугало само отсутствие нравственных преград. Сальери испугала мысль: а не является ли он просто – напросто заурядным завистником («гений и злодейство, две вещи несовместимые»). И он стремится облечь свою тайную зависть в форму негодования против несправедливости. В этом он видит свою миссию. В собственных глазах он является орудием справедливости, неким Моисеем. Но в глубине души он понимает, что сам себя обманывает, что им руководит не высшее моральное соображение, а мелкая слепая зависть. И ужас охватывает Сальери: я злодей, я потому злодей, что я бездарен.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят"
Книги похожие на "На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят"
Отзывы читателей о книге "На ступеньках не сидят, по ступенькам ходят", комментарии и мнения людей о произведении.