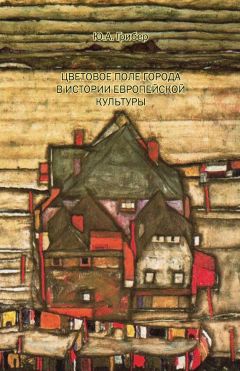Шариф Шукуров - Хорасан. Территория искусства
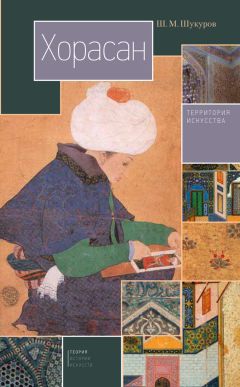
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Хорасан. Территория искусства"
Описание и краткое содержание "Хорасан. Территория искусства" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена предпосылкам сложения культуры Большого Хорасана (Средняя Азия, Афганистан, восточная часть Ирана) и собственно Ирана с IX по XV век. Это было время, внесшее в культуру Средневековья Хорасана весомый вклад не только с позиций создания нового языка (фарси-дари) в IX веке, но по существу создания совершенно новых идей, образов мысли и форм в философии, поэзии, архитектуре, изобразительном искусстве. Как показывает автор книги, образная структура поэзии и орнамента сопоставима, и чтобы понять это, следует выбрать необходимый угол зрения. Формирование визуального восприятия является центральной темой книги. Задача книги состоит в нахождении идей, образов и форм, составляющих существо искусства и архитектуры региона. Проблема этнотерриториальной особенности Хорасана в Средневековье прослеживается на протяжении всей книги. Важное место в книге занимают поиски этимологического и семантического образов культуры Большого Ирана от Шираза до Бухары. Таковы, например, поиски этимологических образов изобразительной и архитектурной формы.
Книга рассчитана не только на иранистов, но и на всех тех, кого интересуют правила внутренней организации искусства, архитектуры, поэзии, философии Средневековья.
63 Теория самопознания, восприятия себя у Авиценны и Сухраварди зиждется на воззрениях Платона (Marcotte R.D. L’aperception de soi chez Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī et l’héritage avicennien // Laval théologique et philosophique. Vol. 62, № 3, 2006. P. 531–532).
64 См. об этом классическую статью: Pubch H.C. L’Iran et la philosophie greque // La civilisation iranienne. Paris, 1952; а также о Плотине в иранском контексте см.: E. Panoussi. La théosophie iranienne source d’Avicenne // Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, Tome 66, № 90, 1968. P. 242; Об общих проблемах присутствия Плотина (Фалутинус или Шайх ал-Йунани) см. книгу интереснейшего автора, живущего в Париже, с отдельной главой о Плотине: Abd al-Rahmān Badawī, La transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Vrin, 1987. P. 46–56. Бадави подробнейшим образом рассказывает о проникновении 4, 5, 6 частей «Эннеад» Плотина в арабоязычную среду под именем «Теологии» Псевдо-Аристотеля, особо отмечает воздействие идей Плотина на Фараби и Авиценну (P. 51–53).
65 Bausani A. Muhammad or Darius? The Elements and Basis of Iranian Culture // Islam and Cultural Change in the Middle Ages. Ed. S. Vryonis. Wiesbaden: Otto Harrossoviz, 1975. P. 44–45.
66 См. о неоплатонизме Авиценны специально: Gaskill Th.E. The Complementarity of Reason and Mysticism in Avicenna // The Perrenial Tradition of Neoplatonism. Ed. J.J. Cleary. Leuven: Leuven University Press, 1997. Как и весь сборник, статья рассказывает об отношениях между разумом и мистикой у Авиценны. Для наших нужд несомненный интерес представляет суждение Авиценны о том, что наука логика представляет собой знание о мере, балансе, масштабировании, все остальные науки имеют дело с приобретением и утратой. Именно логика способствует не только правильному усвоению знания о Бытии, но и освобождению, спасению.
Авиценна использует в последнем случае слово rastagārī (P. 444). По этой причине особое значение для философа на его пути от перипатетики к мудрствованию приобретает трактат «Логика восточников».
67 О проговоренности и непроговоренности см.: Tyler S. The Said and the Unsaid: Mind, Meaning, and Culture (Language, thought, and culture), 1978. The Unspeakable. University of Wisconsin Press, 1988.
68 Walker P.E. Early philosophical Shiism: the Ismaili Neoplatonism of Abu Ya’qub al-Sijistani. Cambridge Cambridge University Press, 1993. Точные даты жизни Сиджистани (ал-Сиджзи) неизвестны, но автор также говорит о его влиянии на формирование мировоззрения Авиценны. Хорошо известно что Авиценна родился в исмаилитской семье. Кроме Сиджистани, следует назвать еще двух представителей «иранской школы» философии, развивавшейся под воздействием Плотина, это – Мухаммад ал-Насафи и Абу Хатим ал-Рази. См. полезную статью о ранних исмаилитских философах: Shin Nomoto. The Early Ismāılī-Shīı Notion of the World-Maker: The Intellect, the Soul, andthe Lord of Creation and Revelation // Horizons. The Journal of the College Theology Society. Vol. 3, No. 2, 2012.
69 Nasir Khosraw. Kitab-e Jami al-Hikmatain. Le livre réunissant les deux philosophie Grecque et de la philosophie ismaïlienne // Texte persane édite pré liminaire en français et en persane par H. Corbin et M. Moin. Tehran-Paris, 1985.
70 О сплетении частей в одно целое логоса, или сплетение идей см.: Benardeteю S. Plato. The being of the beautiful. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984. P. I.170, II.115.
71 Benardete. Plato. The being of the beautiful. P. II.158.
72 Подробнее см. об этом: Nightingale A. Greco-Roman Poetics, Art and Aesthetics // The Humanities at Work. International Exchange of Ideas in Aesthetics, Philosophy, and Literature. Kathmandu: Sunlight Publication, 2008; а также: Фуллертон М.Д. О чудотворных образах в античной культуре // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996,
С. 11–13. Сначала греческий, а затем иранский этнический гений сближает особая приверженность к поэзии. Об отношении древних греков к поэзии см.: Nightingale. Greco-Roman Poetics. P. 284–285. Автор пишет о сложении к V в. до н. э. орального характера древнегреческой культуры.
Поэзия и риторика доминировали в Древней Греции, об этом блестяще писали С.С. Аверинцев и М.Л. Гаспаров. Начиная с поэзии в период Саманидов и Газневидов, история повторилась, поэзия и риторика вновь встали на первый план, но уже у иранцев.
73 См.: Tadhkiratu’ l-Awliya (Memoirs of the Saints) of Muhammad ibn Ibrahim Farid’ddin ‘Attar. Edited in the original Persian, with preface, indices and variants, by Reynold A. Nickolson. L.: Leide, 1905, part 2. P. 145.
74 Какое же отношение имеет все сказанное к искусству Ирана? Самое прямое. В иранской средневековой миниатюре в пределах одной иллюстрированной рукописи один герой в разных миниатюрах представал разноликим (См. об этом в нашей книге «Искусство средневекового Ирана (принципы формирования изобразительности)» М., 1989.). Другими словами, одна и та же вещь изображалась по-разному только с тем, чтобы не возникало искушения приравнять ее к имени собственному.
Перед иранцами не стояла задача приравнивания имени и вещи; по этой причине задача портретирования принципиально не была актуальна.
Внутренний образ человека назвать невозможно, а внешний образ не заслуживает именования, отсюда апофатичность живописного представления героев в изобразительном искусстве Ирана. Расподобление в миниатюре являлось методом обращения не просто с персонажами, а с собственно вещью. Между именем и вещью сознательно не ставился знак равенства, иранцы со временем стали понимать недостаточность подобной позиции, постепенно они стали склоняться к идее тождества имени и изображения. Во второй половине XV в. в Герате стали возникать предпосылки к появлению портретных изображений, а с XVI в. все изменилось – восторжествовал портрет. Культура пошла против себя самой и закончилось это плачевно. Под влиянием западного искусства появились не только портреты, но и фотографии. Мы подробно расскажем об этом во второй части нашей работы.
75 На наш взгляд, Э. Панофски в книге «Идея» слишком плоско воспринял платоновское соответствие между идеей и образом. Дело вовсе не во взаимоотношении между идеей и образом, а в мере этих отношений. Панофски упускает меру различия, которая вводится Платоном в поэтику образа. Урок учителя развил Аристотель в «Топике», о чем мы поговорим ниже.
76 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 742–743.
77 Mitchell W.J.Th. Iconology: image, text, ideology. L.: The University of Chicago Press, Ltd., 1987. P. 5–6; особенно примечательна статья Митчелла, поражающая своей остротой и объемом вложенной мысли: Mitchell W.J.Th., What is an Image? // New Literary History. Vol. 15. No. 3,
1984. В заслугу методологии Митчелла по сравнению с иконологией Панофского следует отнести его особенное внимание к лингвистике и закономерностям формирования языка и образности. Именно это делает его взгляды близкими к нашим экспериментам с языком и поэтическим текстом здесь и далее.
78 Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Сочинения, т. 3. Душанбе: Дониш, 2006. С. 120–121.
79 Ибн Сина. Сочинения. Т. 3. C. 120. А вот зеркальное суждение Канта: «Чрезвычайно важно обособлять друг от друга знания, различающиеся между собой по роду и происхождению, и тщательно следить за тем, чтобы они не смешивались со знаниями, которые обычно связаны с ними в применении. То, что делает химик, разлагая вещества, то, что делает математик в своем чистом учении о величинах, в еще большей мере должен делать философ, чтобы иметь возможность точно определить долю, ценность и влияние особых видов знания в разнообразном применении рассудка. Поэтому человеческий разум, с тех пор как он начал мыслить или, вернее, размышлять, никогда не обходился без метафизики, но в то же время не мог изобразить ее достаточно очищенной от всего чужеродного» (Критика чистого разума. Философское наследие. Т. 118. М., 1994. С. 491).
8 °Cр. с характеристикой метафизики: «На долю человеческого разума в одном из видов его cознания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума. В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой» (Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 7).
81 В суре Корана «Мухаммад» (в переводе И.Ю. Крачковского) приводятся следующие слова: «А тем, которые пошли по прямому пути, Он усилил прямоту и даровал им богобоязненность» [47.19 (17)].
82 См. последние работы по теме пророка Мухаммада: Grabar O., Natif M. The Story of Portraits of Prophet Muhammad // Studia Islamica, 96, 2003.
83 Среди лучших знатоков Корана и его экзегетов много восточных иранцев, вот только три прославленных имени: Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ал-Табари (838–923) с комментарием к Корану «Джами ал-байан аш та’вил ал-Куран» (Тафсир Табари); и Абу ал-Касим Махмуд ибн ал-Замахшари (1075–1144), он родом из хорезмийского города Замахшар, но всю свою жизнь провел в Бухаре, Самарканде, Багдаде; шиитский комментатор Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Туси (ум. в 1067).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хорасан. Территория искусства"
Книги похожие на "Хорасан. Территория искусства" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Шариф Шукуров - Хорасан. Территория искусства"
Отзывы читателей о книге "Хорасан. Территория искусства", комментарии и мнения людей о произведении.