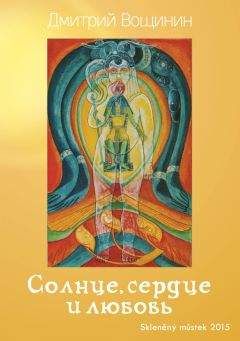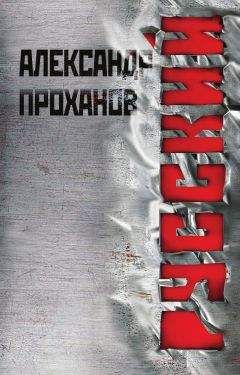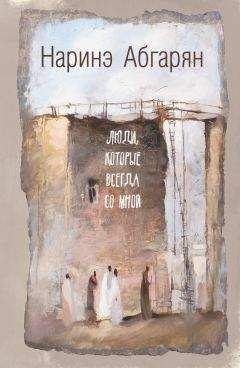Виктор Гусев-Рощинец - Железные зерна
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Железные зерна"
Описание и краткое содержание "Железные зерна" читать бесплатно онлайн.
«Железные зёрна» – роман, семейная сага, рассказанная от лица её главного героя – инженера и учёного Владислава Чупрова. История семьи Чупровых и ряд побочных сюжетных линий воссоздают широкую картину русской действительности двадцатого века. Помимо прочего «Железные зёрна» примыкают к давней традиции антивоенного романа.
Наш старый дом здесь же, неподалёку. Выходя на лоджию (шесть квадратных метров, установка для зимнего хранения овощей, съёмный блок для сушки белья, шведская стенка для сына), я вижу в просвете между фабрикой детской книги и автоматической телефонной станций кусочек его красной кирпичной стены, железную крышу (её топография известна мне до мельчайших подробностей) и четыре давно уже переставшие дымить трубы. Ах, как удобно было сидеть, привалившись к одной из них, и греться на солнышке! Или наоборот спасаться в тени; старая кладка, отполированная нашими спинами, была тверда как алмаз. Этому дому больше ста лет; теперь он отдан во владение возросшему рядом «почтовому ящику» и вот уже долгое время стоит покинутый и пустой в ожидании капитального ремонта. Проходя мимо, я непременно заглядываю в наши окна. Стёкла в них выбиты; мой ревнивый взгляд беспрепятственно проникает внутрь, и каждый раз я отмечаю всё новые признаки распада в этом некогда уютном и столь дорогом мне уголке пространства, где прошествовали мои самые счастливые и самые горестные дни. Как бы то ни было, я рад, что дом не сломают, что в любое время – пока – я могу пойти туда, подняться по одной из двух его лестниц (странная архитектура!), при желании даже забраться на чердак и выглянуть в слуховое окно. Ничего кроме бетонных стен подступившего со всех сторон «предприятия» я при том не увижу; но ведь когда-то от этой трёхэтажной высоты у меня захватывало дух, – особенно если взбираться по пожарной лестнице, – и все прилегающие дворы, – чужие, соседские, неприятельские дворы, огороженные глухими заборами, с их чужой жизнью, были как на ладони. Больше того, я могу вылезти на крышу и походить по ней, а в хорошую погоду посидеть у трубы и мысленно побеседовать с друзьями детства. Бесспорно, причуда, но она не даёт мне покоя, когда-нибудь я непременно это сделаю. Друзья, друзья… Иных уж нет, а те далече. Бахметьев умер. Шурка связался с ворами, угодил в тюрьму за ограбление нашего «Марьинского» универмага и сгинул. Борис Кирсанов спивается. Мой самый некогда близкий, любимый друг (он не из нашего двора, но дружба эта «наследственная», ибо дружили наши отцы, к тому же учились мы в одном классе) пьёт, как говорится, «по-чёрному», и совесть моя почему-то неспокойна. После школы он уехал в Ленинградское военно-морское училище и тем опроверг о себе мнение как о «гениальном бездельнике с будущим дипломата», а заодно и расхожее представление, что талант – это судьба. Дипломатическая карьера – а мы единодушно почитали её уделом избранных и венцом желаний – была открыта ему благодаря высокому положению отца, но талант его состоял в другом – он блестяще рисовал, нигде и никогда не учась этому и нисколько не ценя свой дар, который обнаружил в себе мальчишкой и пронёс через юность, беззаботно соря осыпающимися с него искрами, – только для того, чтобы зарыть у входа в военное училище. Потом он служил на севере, плавал на «лодках», а пять лет назад неожиданно «комиссовался» и вернулся в Москву. Где-то там, за пределами нашей дружбы остался неудачный брак, развод, взрослые дети, его служба, почти вся жизнь. Если мы ещё вправе называться друзьями, то не иначе как «старыми», а ещё точнее – бывшими друзьями. Я давно не звонил ему. Пожалуй, стоит добавить здесь, что наши молодые активные мамы вели, по их словам, большую работу в родительском комитете, а попросту всё своё мало-мальски свободное время проводили в стенах школы, дабы «не упустить» своих лентяев-сыновей. Наверно это не столь повлияло на мои тогдашние успехи, сколько явило собой пример на будущее: теперь я непременный участник всех школьных мероприятий, прибегающих к услугам семьи; я знаю цену родительской опеке.
И вот мой старый друг возвращается после двадцати лет почти беспрерывного отсутствия и поселяется у родителей. Тем самым он прямиком отправляет их в ад, ибо известно, что «ад – это другие», особенно если среди «других» находятся ваши пьющие мужья, жёны, дочери, сыновья… Но ведь ад не приспособлен для жизни, и своим примером подруга моей мамы подтверждает это (их дружба оказалась прочнее нашей – её оборвала только почти одновременная смерть обеих). До того жизнерадостная, подвижная женщина, одна из тех, что никогда не приводят на ум слово старуха, всегда оставаясь просто «пожилыми дамами», – она теряет способность передвигаться, её единственным окном в мир, точнее, маленьким слуховым оконцем становится телефон, и он ежедневно заявляет о себе звонком на нашем письменном столе. Мама снимает трубку; попросив немного подождать, закутывается в необъятный бабушкин шерстяной платок и садится в кресло у окна, приготовясь выслушать очередное действие драмы. Вечером, разогревая на кухне ужин, подавая на стол, моя посуду, – я тем временем курю у открытой форточки – мама пересказывает мне происшедшее там, стремясь не упустить ни малейшей подробности из тех что поведаны ей, а те что остались «за кадром», нам с ней легко вообразить, потому что мы знаем и другую похожую историю – приключившуюся с моим двоюродным братом Львом; для нас она своего рода эталон, с которым мы сравниваем (если такое сравнение вообще возможно) все истории подобного рода, – устрашающий пример деградации и гибели. Единственный ребёнок в семье моего дяди Михаила, Лев тоже был одарённым мальчиком, но пристрастившись к алкоголю, сначала «свёл в могилу» (мамино выражение) своих родителей, а вскоре и сам повесился. В оправдание он пишет на клочке газеты «Жизнь не удалась» и оставляет сию жалобную ноту на кухонном столе, рядом с которым и примащивается на крюке для шторного карниза. Как будто неудавшаяся жизнь может служить оправданием столь некрасивой смерти.
Сегодня первый день моего отпуска, но мне придётся посвятить его делам, которые я не успел завершить; если я этого не сделаю, за мной потянется беспокойство, и долгожданный отпуск окажется испорченным. Я несу из прихожей свою туго набитую папку (натуральная кожа, подарок от руководимого коллектива по случаю сорокалетия, незаменимая в наших условиях вещь: обладает правом быть проносимой через проходную, чего не скажешь например о портфеле). В ней заключена жаждущая прочтения рукопись моего сотрудника и аспиранта Коли Сиренко; уже неделю я её таскаю с собой, и отступать дальше некуда; я человек совестливый и остро ощущаю порыв молодого диссертанта по направлению к кандидатскому диплому. Таким же был и я двадцать пять лет назад, когда, придя с институтской скамьи, вдруг ощутил этот зуд кладоискателя, наверняка знающего, что где-то поблизости, может быть даже под ногами таятся сокровища. Так называемая научная работа представляет собой некое движение, питаемое, вероятно, энергией от возгорания смеси трёх компонентов: потребности в познании, тщеславия и материального интереса. Разные времена и разные субъекты смешивали их пропорционально своим особенностям, но суть от этого не менялась, – они лишь занимали своё определённое место в трёхмерной системе координат, по осям которой можно прошествовать от простого любопытства до ощущения жгучей тайны, от желания быть признанным в узком кружке единомышленников до жажды всемирной славы, от возможности предаваться лени рядом с вращающимися жерновами до обладания нобелевской премией. В наш потребительский век всё идёт на продажу, была бы лишь красивая упаковка: белковые сосиски в целлофане, скандальные биографии на киноплёнке, разрушительные тайны в красном ледерине. Частица одной из них, маленький довесок к нашему общему делу (впрочем, пока ещё без обложки) лежал теперь передо мной. В сущности, он не придумал ничего особенного – всего-навсего нашёл способ немного повысить надёжность наших «изделий». (Почему-то у нас считается дурным тоном называть выпускаемую нашим предприятием продукцию своим именем; я полагаю, что это своего рода стыдливость, что-то вроде отведения глаз в разговоре, когда совесть не чиста.) Как бы там ни было, Коля выполнил большую работу и заслужил быть выслушанным на учёном совете. В общем-то я давно это знал, всё было проверено практикой много раз, и теперь я лишь окинул единым взглядом эти сто с небольшим страниц, призванные обеспечить их автору «переход в новое качество». Несколько правок я всё же сделал, не для того чтобы оправдать свою роль научного руководителя – просто я питаю слабость к грамматике, а тут с ней обращались без должного уважения. Перекладывая желтоватые листы (я – злостный «нарушитель», ибо выношу с территории «грифованые материалы», но дефицит времени многих из нас вынуждает совершать подобные преступления против «режима») я вспоминаю собственную защиту пятнадцать лет назад: наш старый актовый зал на сто пятьдесят кресел, длинный стол на эстраде для членов учёного совета, и там же – кафедра; выполненные цветной тушью плакаты с формулами и кривыми – предмет моей гордости: я сделал их сам, чтобы доказать, что «могу всё» (с тех пор моей самонадеянности поубавилось); мой друг Салгир дал мне таблетку триоксазина, и когда я читал свою защитительную речь (а я именно читал её, чем заслужил неодобрение некоторых особенно строгих ревнителей сего ритуала) был абсолютно холоден, отнял у слушателей ровно двадцать минут и потом ещё полчаса отвечал на вопросы; оппоненты отозвались обо мне с похвалой, голосование было единодушным, генерал – председатель совета (он же начальник объекта – директор предприятия) пожал мою руку, всё было кончено. Вечером в банкетном зале ресторана «Северный» состоялся ужин, куда я пригласил членов учёного совета (тогда ещё это не возбранялось), оппонентов и весь наличный состав лаборатории, которая меня «взрастила как молодого учёного» (из выступлений на банкете). А было мне от роду тридцать три года, и десять последних принадлежали «фирме» (так мы называем наше предприятие, этот термин пришёл на смену «ящику» в конце пятидесятых годов), где я благополучно пребываю до сих пор, обзаведясь должностью начальника отдела, кабинетом и гипертонической болезнью, которая, должно быть, и сведёт меня в могилу в полном согласии с модой и духом времени. У меня кандидатский оклад и довольно большие премиальные, к отпуску я получаю в конверте «на лечение» и при желании соцстраховскую путёвку в санаторий (раньше ездил на юг, теперь «по состоянию здоровья» вынужден довольствоваться Прибалтикой, Карпатами или Подмосковьем, а с некоторых пор и вовсе предпочитаю деревню). Однако ж на этом благополучие моё кончается: работа нервная, отдел большой, люди «сложные» (несложных людей наверно не существует – это начинаешь понимать, входя с ними в отношения неравноправности) я стараюсь руководить, не используя власть как таковую, и поэтому не всегда встречаю понимание со стороны своего начальства. Моему поколению, читающему Карнеги, уже трудно понять руководителей, основной метод которых состоит в приказании; не помню, чтобы я кому-нибудь что-нибудь приказывал: разумеется, я на этом часто проигрывал в глазах «вышестоящего звена», зато всегда пользовался поддержкой подчинённых. Последнее я ценю больше; не скажу что они готовы за меня в огонь и воду, но стоит мне попросить о чём-то и я, как правило, добиваюсь желаемого. Коля Сиренко, например, однажды встречал на полигоне Новый год. И всё же сколько я помню себя на «фирме», я всегда хотел «уйти». Я хотел уйти «на другую фирму», на преподавательскую работу в вуз (куда меня усиленно звали, соблазняя «свободным режимом» и двухмесячным отпуском, благо я тогда не знал ещё, что преимущества эти оплачиваются ужасающей рутиной; о ней я получил представление позже, когда, всё же решив заработать на всякий случай педагогический стаж, пошёл читать лекции на вечернем отделении; предложенная мне «программа» напоминала собой мумифицированные останки какой-то древней жизни, читать по ней я не мог и не хотел, читал по-своему, за что получил выговор кафедрального начальства и «хлопнул дверью») в Академию внешней торговли, чтобы «ездить» (ах, это пресловутое «ездить») и так далее и тому подобное. Одним словом, куда только я не хотел уйти! Не ушёл потому, что связан с «фирмой» (когда очень плохо, добавляю: будь она трижды неладна! – а то и покрепче оборотец) чем-то таким, что точнее всего можно определить словом пуповина; а пуповину, как известно, самому перерезать не дано. Кроме того, меня просто не отпускали; при определённых условиях сделать это очень легко, цель здесь оправдывает средства, и даже я, при всей своей деликатности, нередко прибегал к этим последним средствам, если мне не хотелось с кем-то расставаться, а тем более если под угрозой находилось дело. Первейшее и самое надёжное из тех средств – повышение оклада. Не скажу – многие, но всегда имеется такая категория лиц, которые пользуются этим, чтобы «выбить» себе повышение, и они (а это, как правило, хорошие работники) легко достигают требуемого. Другой путь – околдовать перспективами «научного роста», учёных степеней и званий, «диссертабельной темой» – соблазнами, противу которых трудно устоять современному молодому человеку. Именно такой жертвой стал Коля Сиренко. И наконец, третий, последний способ – не отпустить человека, применив самое грубое, примитивное насилие: не подписать заявление, не снять с партийного учёта, возбудить «персональное дело», оказать нажим, запугать, и здесь всё определяется соотношением характеров: слабонервные остаются, кто посильнее – идут к районному прокурору и всё равно увольняются. Но «фирма» не склонна расставаться с тем, кто однажды переступил её порог. Больше того, чтобы уменьшить по возможности «утечку информации» по семейным каналам, теперь приветствуется ранее осуждавшаяся «семейственность»: с годами на «фирму» переселяются целыми фамильными кланами, от дедушек и бабушек до внуков, включая боковые ответвления: зятьёв, невесток, племянников, золовок, шуринов и даже сватов. В результате оказывается, что в твоём отделе изволит трудиться родственник твоего непосредственного начальника; это узнаёшь в тот самый момент, когда, истощив своё терпение, решаешь наконец любым путём избавиться от нерадивого или неспособного работника, и ты призываешь его к себе, чтобы «поставить точку над i», но в это время раздаётся звонок из отдела кадров, и тебе вежливо советуют «не торопиться», «ещё раз проверить», «подобрать подходящую работу» и, наконец, написать докладную с просьбой о переводе такого-то в другой отдел. Однако учитывая, что происходит это нечасто, я должен определённо сказать, что семейственность в нашей ситуации выглядит, безусловно, явлением положительным: по отношению к молодёжи чувствуешь себя в роли школьного учителя, который всегда может пожаловаться на отбившегося от рук его родителям (или дедушкам, бабушкам, дядям, тётям) и таким образом призвать к порядку. Не один раз и весьма эффективно я прибегал к этой мере и поэтому, повторяю, я – «за». Когда на «фирме» перестали давать «бронь», то есть отсрочку от службы в армии, поток молодых родственников резко сократился; думаю, что это временно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Железные зерна"
Книги похожие на "Железные зерна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Гусев-Рощинец - Железные зерна"
Отзывы читателей о книге "Железные зерна", комментарии и мнения людей о произведении.