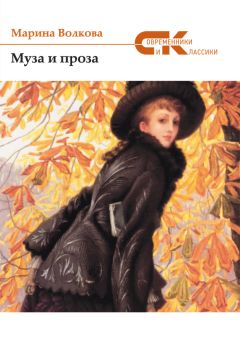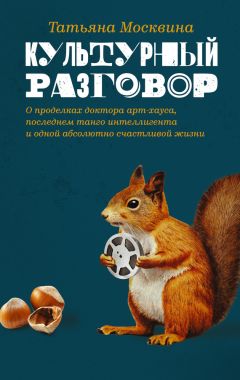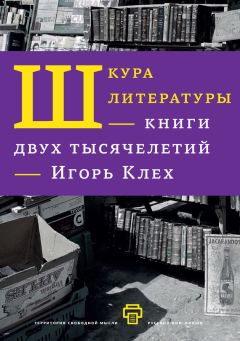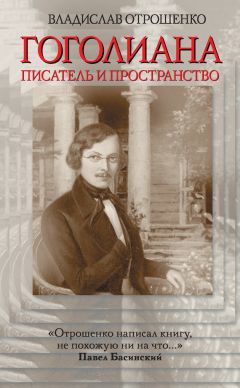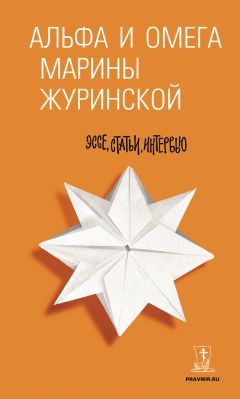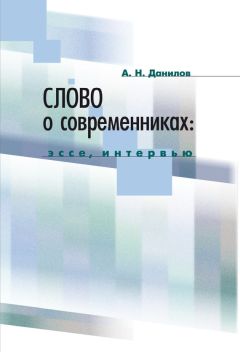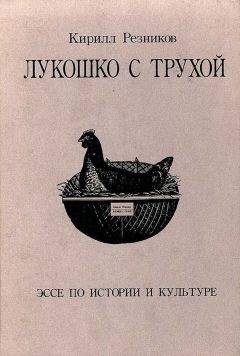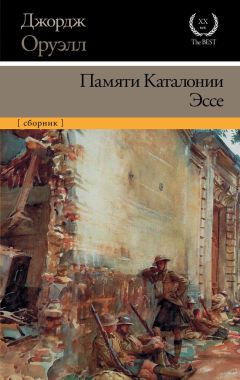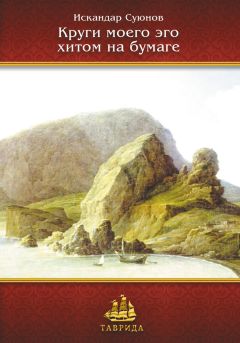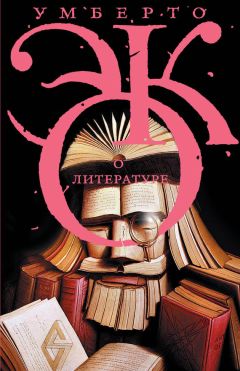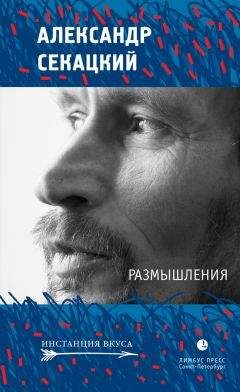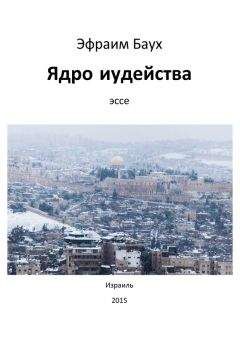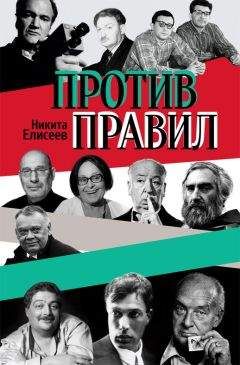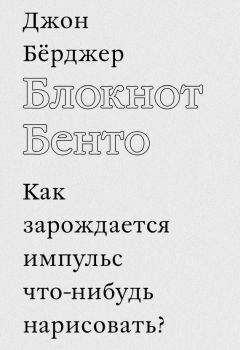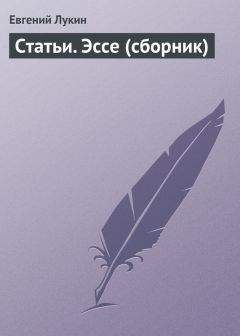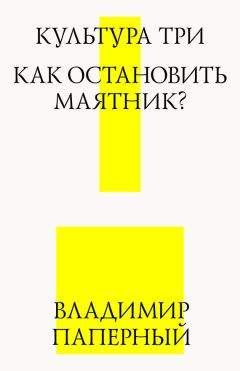Максим Кантор - Чертополох. Философия живописи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Чертополох. Философия живописи"
Описание и краткое содержание "Чертополох. Философия живописи" читать бесплатно онлайн.
Тридцать эссе о путях и закономерностях развития искусства посвящены основным фигурам и эпизодам истории европейской живописи. Фундаментальный труд писателя и художника Максима Кантора отвечает на ключевые вопросы о сущности европейского гуманизма.
Леонардо да Винчи существует вне рынка, помимо рынка, параллельно рынку. «Человек стоит столько, во сколько сам себя ценит», – писал Франсуа Рабле, и Леонардо – живой пример этому правилу: он не поддается оценке. Он позволяет себя почитать, но купить не разрешает. Он не завершил работу над «Поклонением волхвов», но никому бы и в голову не пришло требовать деньги назад: время Леонардо и его талант – бесценны; плата – символическая, он не ради денег работает. Каковы бы ни были условия соглашения Леонардо с заказчиком, он работал не на заказчика. Сколько стоит «Ночной дозор», мы отлично знаем, мы знаем даже историю рембрандтовского заказа, но если мы узнаем цену, заплаченную за «Джоконду» Франциском I – это не сделает работу Леонардо феноменом рыночного труда. Подобно Ван Гогу или Сезанну, которые совершили это спустя пятьсот лет, Леонардо вышел из-под власти рынка и навязал ему свое представление о должном. Как внебрачный сын нотариуса добился такого уважения королей к себе – неизвестно; мы не знаем, какое свойство, помимо неуступчивого нрава, выделяло его среди современников. Чем он покорял властителей земли? Универсальность знаний Леонардо – не исключительна: например, великий художник Маттиас Грюневальд тоже был инженером-гидравликом (лишившись места из-за сочувствия протестантам в крестьянской войне, художник уехал в саксонский городок Халле, где до конца недолгой жизни работал инженером). Однако от самого облика незаконнорожденного сына нотариуса исходило величие, его миссия, – это ощущали все, – была грандиозна.
Большинство художников во время жизни Леонардо прибилось к определенному двору, не ища перемен – они предпочитали гарантированную зарплату. После смерти Лоренцо Медичи диалог гуманитариев с властью разладился – участники диалога разделились на заказчиков и исполнителей; логика рынка завоевала мир Европы. Время рыцарской этики миновало. Императора Карла V возводили на престол деньги Якоба Фуггера, интригу подкупа никто не скрывал; Людовик XI платил английскому Эдуарду IV отступные и ежегодную ренту за нейтралитет в конфликте с Бургундией (Людовик присвоил себе бургундские земли в результате); наступила эра коммерциализации политики и эра рыночных отношений в искусстве.
Странствующий художник – пожалуй, единственный, кто отныне напоминал о странствующем рыцарстве – стал фигурой уникальной для социума. Сегодня, глядя на жизнь странствующего рыцаря Леонардо, мы можем сказать, что он – своей неуступчивой гордыней – создал прецедент, позволивший идти тем же путем Ван Гогу или Гогену. Скитаясь от города к городу, Ван Гог фактически повторял стратегию Леонардо да Винчи, не желая (да и не умея) влиться в рыночный процесс изготовления и продаж предметов искусства.
Они (Леонардо и Ван Гог) имели предшественника, которого смело можно поместить третьим в этот список – речь идет о Данте Алигьери. «И если нет пути чести, ведущего во Флоренцию, значит, я не вернусь во Флоренцию никогда», – говорил Данте в изгнании, и эти слова, вероятно, повторил про себя десятки раз Леонардо да Винчи, бросая некогда гостеприимный двор, чтобы отправиться в новое путешествие. Мощный, беспрекословный индивидуализм, которым проникнута «Божественная комедия» Данте, делавший Данте свидетелем и аналитиком конструкции всей вселенной, этот же индивидуализм питал творчество и живопись Леонардо да Винчи.
Единомышленников Леонардо не имел и не мог иметь. Величайший флорентиец, Данте Алигьери, предшественник Леонардо в одиночестве, так сформулировал свой социальный статус: «Сам себе станешь партией».
В своей «Божественной комедии» Данте вкладывает это кредо в уста своего предка Каччагвиды, которого встречает в Раю. В 17-й песни «Рая» Данте ведет разговор с крестоносцем Каччагвидой, который предрекает поэту будущее и дает характеристику его деяниям. «Сам себе станешь партией» – Каччагвида говорит ровно то, что Данте сам успел решить в отношении себя в связи с партийной борьбой гвельфов и гибеллинов. Он был белым гвельфом формально, но, в конце концов, и эта партийность его не устроила: «идут и гвельфы гиблою дорогой»; Данте остался сам с собой – и, по прошествии веков, Италия уже училась у него одного. Именно так поступил и Леонардо, сохранив за собой уникальную (даже по тем временам) автономность.
Мы не можем назвать его учеников; быть учеником Леонардо, как и быть учеником Данте, значит стать бесконечно свободным человеком; не зависеть от места, не зависеть от кружка и школы; не зависеть от рынка и заказчиков; вести свою собственную линию жизни сообразно убеждениям – но кто мог бы позволить себе эту роскошь?
Леонардо да Винчи не оставил портрета возлюбленной, скорее всего таковой и не имел; не имел он и семьи. Одиночество мастера дало повод для сплетен, подозрений в гомосексуальных пристрастиях. Однако каковы бы пристрастия Леонардо ни были, времени на плотские утехи и вкуса к плотским утехам Леонардо не имел. Его кочевой образ жизни делал семейный очаг невозможным; так и Данте должен был оставить Джемму и сыновей, отправляясь в изгнание; так не имели семьи и Гоген, и Ван Гог, да и Микеланджело семьей не обзавелся. Образ жизни странствующего рыцаря, к сожалению, не способствует семейной жизни.
Роль семьи играли картины, с которыми мастер не расставался – возил их с собой в багаже, постоянно совершенствуя. Точнее сказать так: поскольку живопись – открытый в будущее бесконечный проект, поскольку занятие живописца суть бесконечное проектирование – то логично продолжать совершенствовать изображение бесконечно. Проектирование остановить нельзя.
В этом смысле чрезвычайно важен леонардовский образ Иоанна Крестителя, женоподобного красавца, который словно заманивает зрителя в проект христианства. Лукавое лицо, почти лицо искусителя, не обещает в будущем ничего хорошего – и, тем не менее, уклониться от христианства не получится. Леонардо изображает всю неотвратимость соблазна христианством; мы уже пошли по этому пути.
Важно то, что в мире, созданном Леонардо да Винчи, в мире, не знающем теней и пронизанном вечным светом, всякий проект ценен. В споре Оксфорда и Сорбонны, в споре номиналистов и реалистов (то есть в противопоставлении фактографии и общего замысла), Леонардо занял совершенно особенное положение – он утвердил решительно всякий факт бытия как проект всего целого. Будь то летательный аппарат, батискаф, рисунок человеческого сердца, портрет Мадонны, принятие христианской доктрины или конструкция дворцовой лестницы – любой из этих ноуменов является феноменальным проектом целостного бытия. Нет служебных дисциплин – но все соединяются в живопись; нет теней – но все сливается в ровно сияющий свет; нет смерти – есть переход в иное, не менее значительное состояние природной жизни.
Андреа Мантенья
Врач знает, зачем работает: борется с болезнями. Судья знает, зачем судит: чтобы в обществе была справедливость. И художник должен знать, зачем рисует. Художник превращает красоту в прекрасное, то есть наделяет внешнюю гармонию – сознанием. Мандельштам высказал намерение превратить в прекрасное даже недобрую тяжесть – «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Но, в сущности, все, что признано в обществе красотой, изначально является некрасивым материалом – камень груб, металл жесток, краска пачкает. От усилий творца зависит перевести свойства недоброго материала в категорию прекрасного, то есть одухотворить. Красота не знает, что она прекрасна – художник ее этому знанию обучает.
Платон объяснил, как устроено человеческое сознание: мы припоминаем знания, данные нам изначально; неведомые нам самим знания у нас имеются по причине принадлежности нашего сознания к единому эйдосу.
Платон под словом эйдос понимал нечто вроде «проекта» человечества. Это своего рода «банк данных», коллектор: эйдос – это внутренняя форма мира, конгломерат трансцендентных сущностей.
Процесс припоминания знаний, по Платону, таков: наше сознание подобно пещере, а знания и представления появляются на стенах этой пещеры, словно тени. Мы реагируем на тени, мелькающие на стенах пещеры, мы описываем эти тени, мы придаем им смысл и через метафоры, связанные с этими тенями, возвращаем себе изначальное знание.
Платон говорит, что тени, которые возникают на стенах пещеры, отбрасывают процессии, идущие мимо входа в пещеру.
Что это за процессии, и какого рода тени они отбрасывают, Платон (рассказ ведется от лица Сократа в диалоге «Государство», но придумал эту метафору Платон) не уточняет. Он пишет, что в пещере слышны кимвалы и литавры процессии, вероятно, это шумная и праздничная процессия, но что за праздник, почему шум – ничего не сказано. И крайне любопытно: а сама эта процессия – каким сознанием и знанием обладают ее участники? Но об этом не сказано ни слова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Чертополох. Философия живописи"
Книги похожие на "Чертополох. Философия живописи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Максим Кантор - Чертополох. Философия живописи"
Отзывы читателей о книге "Чертополох. Философия живописи", комментарии и мнения людей о произведении.