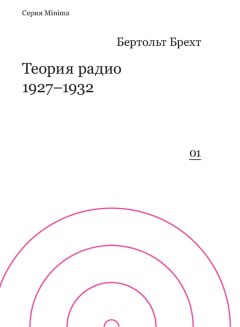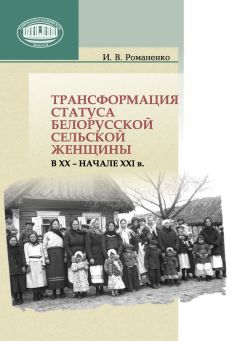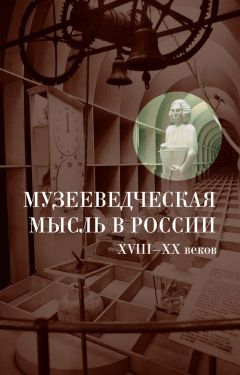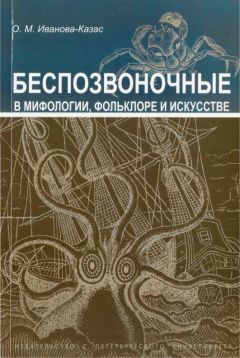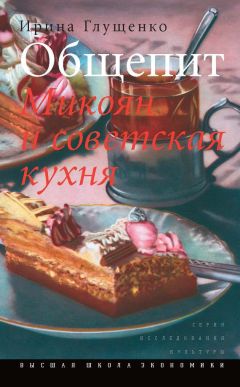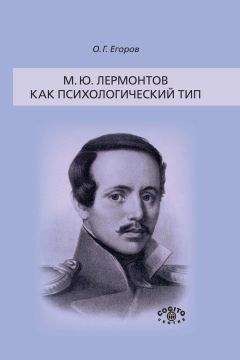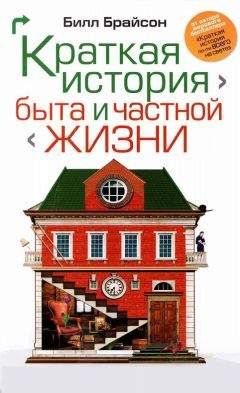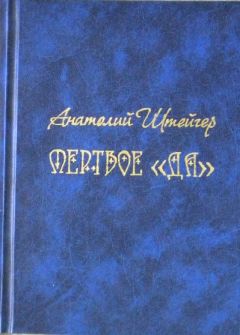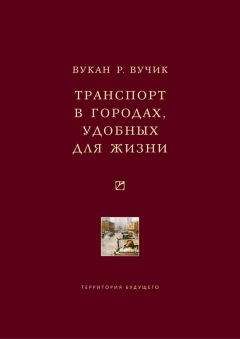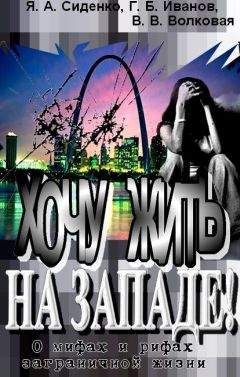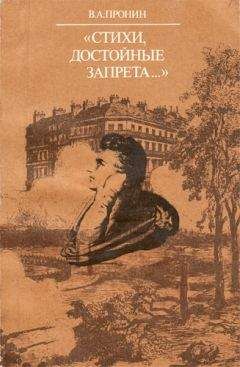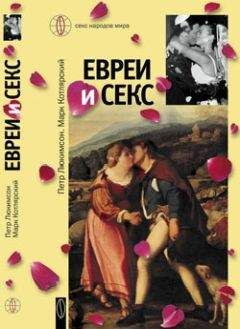Елена Айзенштейн - Стенограф жизни
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Стенограф жизни"
Описание и краткое содержание "Стенограф жизни" читать бесплатно онлайн.
Новая книга Елены Айзенштейн «Стенограф жизни» (М. ЦВЕТАЕВА В ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ, ОБРАЗАХ, МИФАХ И СИМВОЛАХ) создает представление о Цветаевой-поэте в диапазоне от 1927 до 1941 года. В настоящем исследовании впервые в отечественном цветаеведении много внимания уделено процессу создания и совершенствования текста, работе поэта над рукописью, использованы не введенные в научный оборот архивные материалы (РГАЛИ). В книге рассматривается история «Поэмы Воздуха», поэмы «Автобус».
Шелк – одна из любимых тканей Цветаевой, это ясно передано в стихотворениях «В огромном липовом саду…», «Безумье – и благоразумье…», «И всё вы идете в сестры…». Шелка – напоминание о жизни до революции, о любви и красоте, воплощение душевной жизни, нежности поэтического голоса: «Быть в аду нам, сестры пылкие…», «Цыганская свадьба», «Ночные шепота: шелка…». В портрете С. Парнок платье облегает тело «шелковым черным панцирем», а у цветаевской Маруси в поэме «Молодец» платье – «парусами шелковыми / Середь пола – колоколом» (Поэмы, с. 147).3
Гермес не только покровитель души в потустороннем мире, он еще и своеобразный патриарх поэтов, создатель первой семиструнной лиры, и путешествие на тот свет – «Танец / Ввысь! Таков от клиник / Путь» – строки о смерти Рильке навеяны сном о встрече на том свете, рассказанном в письме к Б. Пастернаку 9 февраля 1927 года (подробнее о связи этого фрагмента поэмы со сном о Рильке: ПНМ, с. 258). Душа в поэме изображается через отрицательные сравнения, продолжающие мотив Востока («Наяда? Пэри?»), и лирическая героиня видится бабой, окунающейся в реку после трудной физической работы на огороде. Огород – труженичество Души на пути к ограде райского сада. Последний несколько иронический образ напоминает мотив стихотворения «Так, заживо раздав…», а уход из жизни, потеря тела через воду, знакома по купанию в детстве в Оке. Возможно, поэтому «песчаный спуск» третьего воздуха воспринимается в тетради через отождествление с песчаным берегом Оки в Тарусе.
«Воздух редок»
Четвертый воздух прямо не назван автором четвертым. В тетради поэта – трехступенчатый план, где выделены земное, водное и горное начала. Подмастерьем назван, вероятно, поэт, а небесные горы зрительно Цветаева представляла Альпами:
«ПОДМАСТЕРЬЕ NB! Последователь сущи <й>
1) Гуща (земл <я>) 2) вода 3) горы
III ГОРЫ (Альпы)» (РГАЛИ. ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 49)
От описания третьего воздуха поэт переход к описанию редкого воздуха, где душа цедится, как сквозь невод цедится рыба (ср. деление поэмы на условные части на основе метрических особенностей в работе Гаспарова). Гребень для песьих курч упоминается потому, что среда того света словно семиструнная расческа поэтической лиры. Один из образов «редкости», разреженности четвертого воздуха – «бредопереездов / Редь, связать-неможность», невозможность соединить обрывки бредовых речей в момент болезни или сна. В тетради А. К. Тарасенкова с текстом поэмы Цветаева к строке «Как сквозь про́сып / Первый (нам-то за́сып!)» сделала помету: «Мы, поэты, просыпаясь – засыпаем!», повторив определение творчества состоянием сновидения (Поэмы, с. 340).
Ощущения в четвертом воздухе мучительны и подобны укусу пчелы или шмеля. Вариант в черновике: «Ледяные жальца / укус без зуда…» (РГАЛИ. ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 62) – напоминает читателю эпизод поэмы «Молодец», где шмелем вьется Молодец, а Маруся расстается с жизнью. В окончательном тексте «Поэмы Воздуха» : «Как жальцем – / В боль – уже на убыль». Можно предположить, Цветаева вспоминала больного умирающего Г. Гейне и его последние стихи к Мушке:
Тебя мой дух заворожил,
И, чем горел я, чем я жил,
Тем жить и тем гореть должна ты,
Его дыханием объята.
…………….
В могилу лег я – плотью тлеть,
Но дух мой будет жить и впредь;
Он бдит, как нечисть домовая,
В твоем сердечке, дорогая.
…………….
Везде, куда ты полетишь,
Ты дух мой в сердце повлачишь,
И жить должна ты, чем я жил,
Тебя мой дух заворожил.
У Гейне мысль о том, что он останется «домовым» в сердце своей подруги и будет летать с ней повсюду – у Цветаевой в поэме сначала образ «жальца» подобие жала (змеи? шмеля? мушки?), а затем обыгрыванье фразеологизма «сквозь пальцы» в метафоре: «Редью, как сквозь пальцы / Сердца». Болевое ощущение в этом воздухе связано с отбором душ, похожем на отсеиванье неподходящих слов. Душа пропускается через цедкое творческое сито. Отсюда – воспоминание о гениях – Гейне, Гёте и Рильке. В тетради – первоначальный вариант, построенный на игре слов: Рай – Райнер. Полет в новый пласт неба похож на отбор поэтом необходимых слов во время работы над стихом: «Цедок, цедче глаза / Райнерова / Вольфгангов <а>, слуха / Райнерова» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 63). В окончательном тексте:
Цедок, цедче сита.
Творческого (влажен —
Ил, бессмертье – сухо).
Цедок, цедче глаза
Гётевского, слуха
Рильковского… (Шепчет
Бог, своей – страшася
Мощи…)4
Цедкость воздуха сравнивается Цветаевой со Страшным Судом. Горный пейзаж – торжество Высоты, свободы дыхания, красоты, особых звуковых эффектов:
По расщелинам
Сим – ни вол, ни плуг.
– Землеотлучение.
Пятый воздух – звук.
Так через полное отрицание рождающей почвы, через образ звучащего пространства Цветаева сразу переходит к описанию пятого гудкого воздуха.
«Пятый воздух – звук»
В рабочих записях к поэме читаем: «Даны: гуща ливкость/ <нрзбр.> редь. Теперь: гудкость. Затем (или вместе нарастание: пустоты <)>, наводнения музыкой (паузу как Музыку (пульс) <)>» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 66). Таким образом, в пятом воздухе душа слышит гудение, а в шестом – музыку. «Гудкость» воздуха изображается через незвуковые метафоры: гудкость того света гудче «года нового» – вспоминание страшного известия о кончине Рильке, полученного в канун нового года, названного в следующем стихе «горем новым». Далее гудкость воздуха сопоставлена со звучанием народной песни. Гудение нового воздуха гудче соловьиного пения, голоса Иоанна Богослова, певчего поэтического слова:
Соловьиных глоток
Гром – отсюда родом!
Рыдью, медью, гудью,
Вьюго-Богослова —
Гудью – точно грудью
Певчей – небосвода
Нёбом, или лоном
Лиро-черепахи?
Гудкость воздуха отождествляется со строительством дома. Стройка – глыба в деле – строительство новой жизни на том свете подобно возведению Фив близнецами Зетом и Амфионом. В комментарии в черновике следующие строки о финале поэмы, делающие акцент на сходстве Духа с Гермесом, чьей главной «тяжестью» является голова: «NB! Куда тягу ввысь (тяготение высь тверди) М. б. конец? Про́пад ввысь. Притянутость за вес Гермес <а> голову. Полет ввысь. (Гостин <и> ч <ный> винт, Обгоняют его верхушку. <…> одна голова с крыльями, ка <к> у ангелов, Что не плеч <и>, а лоб крылат» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 66). Образ винта как аналога движения по воздуху Цветаева использовала и в поэме «Лестница». Мотив гостиничного винта в комментарии к «Поэме Воздуха» сближается бегом вещей по мраморным лестницам во сне о Наполеоне.
Гермес изготовил семиструнную лиру из панциря черепахи и пел под собственный аккомпанемент. Цветаева уподобляет мироздание поэтическому горлу; у небосвода тоже есть свое нёбо, и небосвод (Бог) поет. Зрительно небо нёба превращается в свод черепахи – остов лиры. Согласно мифу, Фивы строились под музыку: Зет носил и складывал камни, а Амфион строил из них город игрой на лире, подаренной ему Гермесом. В тетради – двустишие, говорящее об устройстве небесного «града» : «Как слагались Фивы / Так слагалось небо!» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 74). Небесные Фивы в поэме названы нерукотворными:
По загибам,
Погрознее горных,
Звука – как по глыбам
Фив нерукотворных.
Семеро против Фив – одно из важнейших событий, предшествовавших Троянской войне, отсюда переход к цифре семь в поэме. Лишена аргументации попытка Р. Войтеховича отношение МЦ к семантике числа семь в «Поэме Воздуха» вывести из лекций Р. Штейнера (ЦА, с. 300). Поиск антропософского подтекста в текстах Цветаевой – дело бесперспективное. В мифе о Фивах неоднократно упоминается цифра семь: семеро полководцев, семь отрядов, семь фиванских ворот. Вероятно, Цветаевой было известно, что главным источником для афинских драматургов, рассказавших о семерых против Фив, была эпическая поэма «Фиваида», датированная 7 в. до н. э. Образ семиструнной лиры становится в поэме символом Лирики и мироустройства. Мир держится на священной цифре «семь», которая, как «число творенья» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 82), число струн лиры, дней недели, лежит в основе всего на небе и на земле:
Семь – пласты и зыби!
Семь – heilige Sieben!
Семь в основе лиры,
Семь в основе мира.
Раз основа лиры —
Семь, основа мира —
Лирика.
В рабочих материалах к поэме Цветаева сопоставляет строение лиры и Библии:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Стенограф жизни"
Книги похожие на "Стенограф жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Айзенштейн - Стенограф жизни"
Отзывы читателей о книге "Стенограф жизни", комментарии и мнения людей о произведении.