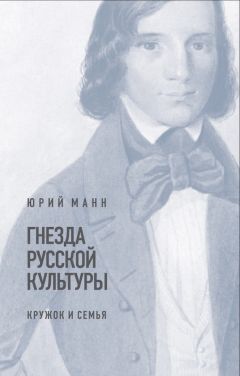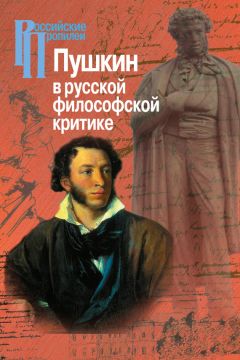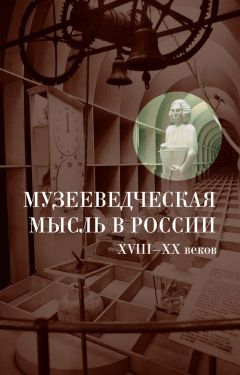Михаил Гершензон - Избранное. Исторические записки
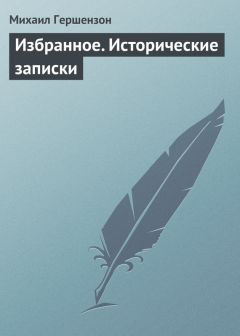
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Исторические записки"
Описание и краткое содержание "Избранное. Исторические записки" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, писатель, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят: «Исторические записки», «Славянофильство», «Мечта и мысль И.С. Тургенева», «Пальмира», «Человек, одержимый Богом». Многие выстраданные мысли «Исторических записок» поражают своей злободневностью и корреспондируют со статьей «Славянофильство». Издание снабжено статьями В. Розанова, Г.В. Флоровского, Л.И. Шестова, А. Белого, Е. Герцык, Б.К. Зайцева, В.Ю. Проскуриной о месте Гершензона в истории российской культуры, комментариями и указателем имен.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, а равно и на исследователей, преподавателей и студентов.
Таким образом, в обоих наиболее существенных для вас тезисах (свобода воли и нравственный закон) ваши требования не могут быть основаны на ваших принципах и фактически основываются вами на данных религиозного свойства. Материалист по мировоззрению, вы в ваших требованиях, сами того не сознавая, исходите – в первом случае (свобода воли) из признания полной независимости души от физической среды, во втором (нравственность) – из представления об объективной реальности Бога. Но благодаря этому внутреннему противоречию ваше рассуждение рассыпается в прах; в нем нет логической последовательности. Ваш пример, ваша неудача лишний раз доказывает, что человек, не носящий в своем сознании данных религиозного свойства, то есть самопроизвольно отворачивающийся от призывающего его к себе Бога, сам у себя отнимает возможность разумного оправдания тех нравственных требований, которым он подчиняется.
XIVПоследовательного неверия нет и не может быть – таков последний вывод Самарина. Пусть только человек мыслит логически правильно, и он непременно откроет в себе веру. Последовательность есть и объективный закон мышления, от которого оно не в праве уклоняться. Каждый человек может мыслить односторонне, – это его законное право, но он должен быть последователен в своей односторонности, – и если только он будет последователен, односторонность его мысли обнаружится сама собою. «Я дорожу невозмутимым процессом законного самоубийства всякой лжи, – писал Самарин, – не только как неотъемлемым правом свободной мысли, но еще и потому, что этим процессом достигаются положительные результаты: очищение правды и уяснение ее ad extra[5], в логическом ее понимании».
Время, на которое пришлась вторая половина жизни Самарина (я разумею третью четверть XIX века), было одной из положительных, не критических эпох в жизни русского общества. Истина казалась найденной, и она безраздельно овладела умами. Эта истина была двойственна: материализм в мировоззрении, радикализм в политической сфере. Чернышевский с непотрясаемым самодовольством развивал теорию грубейшего материализма, внедряя в молодежь уверенность, что наука о духе есть не что иное, как отрасль естественных наук, что органическая жизнь есть химический процесс, и что, как во всяком химическом процессе тела обнаруживают многообразные качества, так и физиология разделяет сложный процесс, происходящий в человеческом организме, на дыхание, питание, кровообращение, движение – и ощущение, ибо психические явления развиваются из физиологических по закону превращения количественных различий в качественные. Тому же учил Добролюбов, точно так же опираясь на непререкаемый авторитет «науки» («наука объяснила», «антропология доказала нам ясно», «в наше время успехи естественных наук дали нам возможность» и т. д.). И на этих теориях строился идеал политической и личной эмансипации. Характерной чертою эпохи являлось именно материалистическое истолкование радикализма, общая уверенность, что свобода может быть прочно основана только на данных материалистической доктрины. Понятно, как должно было ужасать Самарина это роковое ослепление. Все, что написано им в последние годы жизни, имеет целью раскрыть этот самообман. Он неустанно твердит: то, во что вы верите, ведет только к рабству, блага же, которых вы хотите, могут быть основаны только на религии и ни на чем другом. Только в религии можно почерпнуть сознание личной свободы как способности самоопределения, а без этой свободы нет ни добра, ни зла, ни вменения, ни обязанности, и рушится самое понятие права. Если свобода – фикция, то и оберегание ее, составляющее сущность права, не имеет смысла. Если каждое явление в жизни отдельного человека обусловлено исключительно законом вещественной необходимости, как движение светил, как процесс произрастания и т. д., то добиваться политической свободы так же смешно и неразумно, как стараться высвободиться из-под условий химических сочетаний и физиологических процессов. Как вы не поймете, что нелепо на одной и той же странице (как это ежедневно делают ваши учителя) утверждать, что душа есть только особая форма проявления материальных процессов, – и возмущаться телесными наказаниями, признавать между обезьяною и негром только количественную, но не качественную разницу, – и проклинать рабство и Южные штаты?
XVЛетом 1864 года Самарину случилось быть в Лондоне. Он был когда-то близок с Герценом – двадцать лет назад; они тогда много спорили и, в конце концов, теоретически разошлись, сохранив личную симпатию друг к другу. Теперь Самарину захотелось повидать Герцена. Это было смутное время для Герцена – горького похмелья за польское восстание. «Колокол» уже терял свою силу.
11 июля Самарин послал письмо Герцену, жившему тогда в Борнемаусе, в пяти часах езды от Лондона. «Любезнейший Александр Иванович, – писал он, – вы знаете, что мы с вами всегда стояли не рядом друг с другом, а на диаметрально-противоположных концах. Вы, конечно, догадываетесь, что в настоящее время едва ли кто-нибудь строже меня осуждает всю вашу деятельность и жалеет искреннее о том вреде, который вы сделали и делаете в России. Но у нас обоих много общих воспоминаний; думаю, что вам они так же дороги, как и мне. К тому же я не могу забыть, что вы одни во всей русской литературе помянули с сочувствием людей, которых память для меня священна9. Не хотелось бы мне уехать отсюда, не пожав вам руки и не переговорив с вами искренно»10. – Герцен отозвался немедленно: «Я страстно хочу вас видеть – и что за дело до несогласий? В чем они? В православии? – оставим вечное той жизни. В любви искренней, святой к русскому народу, к русскому делу я не уступлю ни вам, ни всем Аксаковым». Герцен звал Самарина в Борнемаус, но предлагал и приехать для свидания в Лондон. Самарин отвечал на это письмо: «Что вы многое любили, разумеется, не Россию, по крайней мере не действительную Россию, – это я знаю. Чувствую также, что вопреки всей вашей деятельности, в вас сохранилась потребность какого-нибудь идеала, хотя тот идеал, которому вы служите, с каждым днем суживается, съеживается и расплывается. Поэтому-то именно и хотелось бы мне высказать вам все, что у меня накипело на душе против вас, независимо от желания обнять вас и помянуть старину». Самариным и в этом деле руководила все та же, знакомая нам мысль: веря в искренность Герцена, он надеялся личной беседою довести его до сознания собственной «религии».
Свидание состоялось в Лондоне и продолжалось три дня (21–23 июля). Герцен остановился в той же гостинице, где жил Самарин. Едва он взошел в нумер и спросил о Самарине, последний явился сам и бросился обнимать Герцена. Разговор длился от 6 до часа беспрерывно. «Десять раз, – писал Герцен Огарёву на другой день, – он принимал ту форму, после которой следовало бы прекратить и его, и знакомство. О сближении не может быть и речи, и при этом лично С. и уважает, и любит меня». Герцен передает и содержание беседы, но, конечно, односторонне: польский вопрос, действия революционных кружков в России, политика правительства. Нет никакого сомнения (это будет видно из дальнейшего), что Самарин старался свести все разногласие на общие вопросы мировоззрения, но об этом предмете Герцен умалчивает: эта тема не интересовала ни его, ни Огарёва.
Условлено было на другой день обедать вместе; «может вы будете спокойнее», – сказал Самарин. Но эта вторая беседа «была еще тяжелее; дошло даже до холодно-язвительных заметок». «Я болен Самариным», – пишет вечером Герцен. Он жалуется, что Самарин уклоняется от прямой постановки практических вопросов. «Он толкует, что без „ла кестион релижиос и полонес”[6] и трава не растет». 23-го Самарин пришел к Герцену проститься. Тут опять был «крупный разговор и злой. Потом что-то молчаливый. Потом мне в самом деле стало грустно, да и ему». На прощанье они поцеловались. Герцен сказал: «Может и это русское явление, что два противника так встречаются».
Десять дней спустя, из Рагаца, Самарин послал Герцену огромное письмо – «письмо не письмо, а что-то безобразно длинное, кажется грубоватое, но искреннее», – как он признавался несколько дней спустя. Политическая часть этого письма нас здесь не интересует; она дышит запальчивым раздражением, почти злобою, полна несправедливых обвинений против Герцена и грубых фактических ошибок. Мы не будем ни оправдывать, ни осуждать Самарина: то было ожесточение борьбы, а Самарин был страстный человек; во всяком случае, он верил в то, что говорил, – это не подлежит сомнению.
Я приведу только существенную часть этого письма11.
«Повторяю вам опять то, что я говорил вам в Лондоне: ваша пропаганда подействовала на целое поколение как гибельная, противоестественная привычка, привитая к молодому организму, еще не успевшему сложиться и окрепнуть. Вы иссушили в нем мозг, ослабили всю нервную систему и сделали его совершенно неспособным к сосредоточению, выдержке и энергической деятельности. Да и могло ли быть иначе? Почвы под вами нет; содержание вашей проповеди испарилось; от многих и многих крушений не уцелело ни одного твердого убеждения; остались одни революционные приемы, один революционный навык, какая-то болезнь, которой я иначе назвать не могу, как революционною чесоткою. Все прочее, чем вы еще придаете себе вид пропагандиста и что в вас, Александре Герцене, совершенно искренно, то все вы сами давно засудили и оплевали в виду всех ваших учеников. Вы из первых у нас проповедовали материализм и держитесь его и теперь; он вам пришелся по руке, как таран, которым вы разбивали семью, церковь и государство. Как материалист, вы должны знать, что из всех разнородных побуждений, одновременно испытываемых человеком, всегда берет верх сильнейшее, и что относительная сила этих побуждений, перевес одного над другими, обусловливается не выбором и произволением человека, а целою совокупностью сочетаний и воздействий химических, физических и иных, которые все, от первого до последнего, предопределяются законом строгой вещественной необходимости. Вы также знаете, что так называемая свобода воли, или предполагаемая в человеке возможность (а следовательно и право) самоопределения, есть не что иное, как устарелое суеверие, как X, условный знак искомого, и заявление нашей неспособности уловить необходимую связь причин и явлений. Из этого простой вывод: если нет свободы духовной (в смысле самоопределения), не может быть и речи ни о свободе гражданской, ни о свободе политической, ибо и та, и другая предполагают первую: сам человек не в силах выбиться из-под гнета вещественной необходимости; если самая эта устарелая мечта о свободе не более, как продукт того же гнета, то этим самым очевидно оправдываются всякое принуждение извне, всякий деспотизм, всякое торжество сильнейшего над слабейшим. Далее, если нет свободы, нет и ответственности, нет того, что на языке церковном и юридическом называется вменением, нет над человеком суда в самом широком смысле этого слова, начиная от простого одобрения или порицания и кончая народным триумфом или каторгою.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Исторические записки"
Книги похожие на "Избранное. Исторические записки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Исторические записки"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Исторические записки", комментарии и мнения людей о произведении.