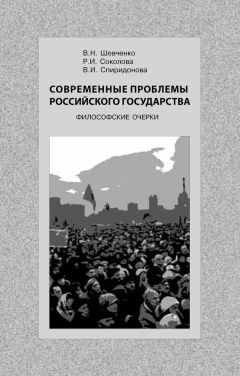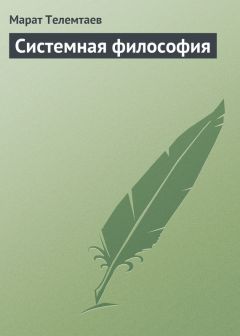Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Национализм. Пять путей к современности"
Описание и краткое содержание "Национализм. Пять путей к современности" читать бесплатно онлайн.
Философская работа известного культуролога, профессора Бостонского университета Л. Гринфельд «Национализм» посвящена актуальному вопросу формирования национального самосознания в России, Англии, Франции, Германии и США. Какие предпосылки приводили к возникновению наций? Что за люди стояли у истоков, какие события влияли на этот процесс? Почему столь различными оказались как пути развития, так и сформированные национальные идеи? В своем фундаментальном труде автор детально и глубоко разбирает упомянутые проблемы в историческом контексте, начиная с зарождения наций и до сегодняшнего дня. Точка зрения автора во многом революционна, но исключительно убедительна, благодаря привлечению огромного количества фактологического материала: исторических трудов, свидетельств, писем и литературных источников, в том числе редких. Свои мысли автор излагает увлекательно и остроумно, что нечасто встречается в научной и даже научно-популярной литературе. Все это делает книгу интересной не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
Людовик XIV
В царствование Людовика XIV, le Diedonné, «короля-солнце» и Великого монарха, центральная власть была решительно объединена с королевской персоной и дальнейшие атаки на абсолютизм стали бессмысленными. Король, который не без оснований мог говорить: «Государство – это я», использовал этот термин вполне (хотя и не совсем) недвусмысленно и именно в этом значении. Людовик XIV был правителем с колоссальным чувством долга, трудоголиком, преданным своему занятию, можно сказать, истинным королем-профессионалом и, судя по получаемому им от этого удовольствию, артистом в своем деле [63]. Он писал в мемуарах, что интересы государства всегда должны превалировать над личным удовольствием короля [64]. «Общественный и личный долг» неразделимы, если это касается королей, считал Людовик XIV. С того момента, как он повзрослел и решил стать монархом, Людовик XIV служил государству, но слугой государства он не был. В смысле этатизма Ришелье, государство было не над Великим монархом, оно для него было тем же, чем Святой Дух был для Бога Отца. Для короля «благо государства» подразумевало благополучие королевских подданных лишь на последнем месте, поскольку таковое благополучие не являлось необходимым для достижения высоких идеалов – величия, славы и абсолютного самовластия, которые были внешними выражениями королевского достоинства. Слава была наиглавнейшим благом государства и венцом королевских трудов. В то же самое время она была вернейшим средством для достижения этого венца. «Одной лишь репутацией можно достичь большего, чем с по мощью самой сильной армии», – с удивительной социологической прозорливостью заметил король. – Все завоеватели достигли более существенных результатов, полагаясь на свое имя, а не на свой меч». Государство нуждается в величии королевской власти. «В интересах своего величия и даже (курсив автора) в интересах своих подданных, – писал Людовик, – он (король) должен требовать от них полного подчинения. Самое незаметное разделение власти влечет за собой колоссальнейшие несчастья». Королю казалось, что главная причина этих несчастий – это «амбиции высокородной знати», которые, не будучи подав лены, неизбежно ведут к бунтам, гражданским войнам и обычной не справедливости. «Всякий аристократ, – писал августейший автор – тиранит своих крестьян. Таким образом, при разделении власти, вместо одного короля, которого должно иметь народу, им одновременно правит тысяча тиранов. А разница здесь в том, что законный повелитель всегда добр и умерен по отношению к своим подданным, поскольку его приказы имеют под собой определенное основание, в то время как незаконные суверены всегда несправедливы и деспотичны, ибо они движимы необузданными страстями».
Современники великого короля, такие как церковник Боссюэ (Bossuet) или юрист Жан Дома (Domat), выражали это же мнение словесно, а другие, самым значительным из которых был Жан Батист Кольбер, помогали воплощать его в жизнь. Дома был, в некотором роде, неортодоксальным защитником абсолютизма. Он выдвинул две поразительно со временные идеи: первая, что все люди рождаются равными, а вторая – что для их же собственного блага, им предназначено неравное общественное положение, ибо удовлетворение необходимых общественных потребностей требует разделения труда. То есть важнейшее обоснование абсолютизма было функциональным. Тем не менее оно еще подкреплялось и Божественным волеизъявлением. Социальная иерархия и политическая власть были божественными институтами, в то время как равенство людей было всего лишь созданием природы. Таким образом, традиционные соображения, насчет божественного права на королев скую власть и подразумеваемую легитимность такой власти, у Дома тоже присутствовали. Логика его аргументации свидетельствовала о его одаренном юридическом уме: «Люди, которых природа создала равными, но отличающиеся друг от друга, в соответствии с тем разнообразием профессий и условий своего существования, которые дал им Господь, имеют необходимость в правительстве. И эта необходимость показывает нам, что правительство возникает по воле Господа. И по скольку Господь есть единственный наш естественный Повелитель, то именно благодаря Ему, все те, кто правят нами, сохраняют свою силу и власть, и в деятельности своей они являются представителями самого Господа… А раз правительство необходимо для общего блага, и сам Всевышний его поставил, следовательно, те, кто являются его подданными, должны быть ему послушны и покорны» [65].
Епископ Боссюэ, обращаясь к Людовику XIV и, очевидно, ко всем монархам прошлого и будущего в его лице, как к «богам из плоти и крови», поучает их, что «не только права королевских особ установлены Божьим законом, но и выбор властителей совершается по воле Божественного провидения. Чтобы установить власть, представляющую его собственную, Бог отмечает чело и облик суверенов печатью божественности». (Хотя некоторые из обязанностей помазанника носили поразительно обыденный характер.) «Возне сите славу вашего имени и славу Франции, – просил короля Боссюэ, – до таких высот, чтобы вам нечего было больше желать, кроме вечного блаженства».
В этом контексте преданность королю была благочестием. Но для Боссюэ благочестивое поведение включало в себя больше, чем преданность королю. В своем труде Histoire de variations des églises protestantes он настаивал на том, что «протестантство не есть христианская вера, поскольку протестанты не верны своим королям и своим странам». Страна (the country) приобретала сакральность по ассоциации с королем. Вознося хвалу патриотизму, Боссюэ повторяет идеалистов старых времен. «Человеческое сообщество требует, чтобы мы любили ту землю своего обитания, – писал он в своей главной работе Politique tirée de l’Ecriture Sainte, – это то, что римляне называли caritas patrii sole, любовью к Родине (l’amour de la patrie)». Это чувство, естественное для всех народов. Родине должно было пожертвовать в ми нуту ее нужды все свое благосостояние и даже самое жизнь. Понятие patrie определялось так: «алтари, священные вещи, слава, благосостояние, мир и безопасность жизни; объединение всего человеческого и божественного». Долг перед королем состоял в том же самом, по скольку король и родина были едины. Ему следовало служить так же, как и родине… «Государство воплощено в повелителе, в нем – сила государства, в нем – воля целого народа. Хороший человек отдаст свою жизнь за жизнь своего суверена» [66].
Grand siécle (великий век) считал патриотизм благородным чувством. Великие поэты этого века следовали традициям своих предшественников и воспевали жертвы во имя патриотизма. Пьер Корнель писал:
Mon cher pais est mon premier amour…
Mourir pour le pais est un si digne sort
Qu’on brigueroit en foule une si belle mort…
Моя дорогая страна – моя главная любовь…
Умереть за родину столь почетно…
Что Все могут только мечтать о такой красивой смерти…
Без patrie жить не стоило. Когда Родина (the country) была в опасности, жизнь была ничтожной платой за то, чтобы Родина про должала существовать. Во всяком случае, так считал Жан Расин:
Quoi! lorsque vous voyez pèrir votre patrie
Pour quelque chose, Esther, vous compte votre vie [67].
Пошто! Когда вы видите, что родина ваша гибнет,
Зачем, Эсфирь, вам собственная жизнь?
В этой поэзии служение Родине и служение королю часто тоже не разделялись – король и Родина упоминались, так сказать, на одном дыхании. Французские подданные охотно идентифицировали себя с королем, чья слава была воистину славой Франции, особенно во времена побед. И они гордо чувствовали себя французами. Но не все это чувство разделяли – даже в среде образованных французов, которые были к этому чувству наиболее склонны. Блез Паскаль считал, что патриотизм, как его понимали в ту эпоху, есть чувство глупое и разграничивал интересы подданных и интересы короля. Жан де Лабрюйер полагал, что patrie и абсолютная монархия являются взаимоисключающими понятиями. «Patrie не существует при деспотизме – она подменяется другими вещами: королевскими интересами, королевской славой и службой королю» [68]. Впрочем, вслух это не говорилось, во всяком случае, на протяжении большей части царствования Людовика XIV, хотя к концу этой эпохи подобное мнение стало более распространенным. Во второй половине XVII в. патриотизм был чувством, тешащим самолюбие, – тогда можно было соглашаться, что этот век действительно grand siècle для Франции, век славы и величия, а Людовик XIV – Великий монарх, что Родина – общая мать для короля и его подданных и что государство Франция и король – едины.
Покуда организованная общность (polity) определяется той властью, под которой она находится, на самом деле трудно отделить ее образ от образа короля, являющегося своим собственным первым министром. Тем не менее личное правление Людовика XIV сопровождалось усиленным ростом государственного административного аппарата. Административная централизация наглядно выражалась в распространении незаинтересованной бюрократии (незаинтересованной в том смысле, что у нее не было иных интересов, кроме как государственных, т. е. чтобы управление страной шло как по маслу). «Именно с развитием бюрократии, – писал Жорж Паже (Georges Pagès), – государственные секретари в центре и интенданты на местах (и следует добавить король через них) устанавливали свою власть в королевстве. Интендантов, 30 maîtres des requêtes, послали в провинции, и от них «полностью зависело разорение или процветание этих провинций» [69]. Ненавистные интенданты в эту эпоху надолго стали всесильными агентами центрального правительства. В отличие от своих предшественников при Ришелье и Мазарини, у которых были соперники – officiers, все еще сохранявшие важную административную власть, интенданты Людовика XIV отобрали у officiers все их функции, а также взяли на себя все судебное администрирование. Фактически они контролировали сбор налогов, вместе с губернаторами провинций (каковые обычно были грандами королевства) осуществляли надзор над землями этих провинций, а вместе с епископами – над землями церковными, и отняли у parlements административный контроль над армией, управление местными общинами, апелляции местным су дам, исполнение приговоров, назначенных королевским или церковным судом, оценку и помощь при строительстве монастырей, начальных школ, средних школ и университетов и проведение реформ в этих заведениях. Они отобрали у parlements права на регистрацию религиозных отступников и новообращенных, в общем они стали осуществлять генеральное руководство в юридической, коммерческой, сельскохозяйственной и промышленной администрации [70]. Короче, они и управляли Францией, тем самым лишив влияния и любых источников власти возможных лидеров оппозиции. В целом результат их правления был благоприятным. Даже Паже, не слишком симпатизировавший централизации власти, вынужден был согласиться, что при интендантах государством стали лучше управлять и простым людям житься стало легче. Но его оценка этической значимости их правления была недвусмысленной. Именно интендантская администрация познакомила нацию с королевским деспотизмом [71].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Национализм. Пять путей к современности"
Книги похожие на "Национализм. Пять путей к современности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности"
Отзывы читателей о книге "Национализм. Пять путей к современности", комментарии и мнения людей о произведении.