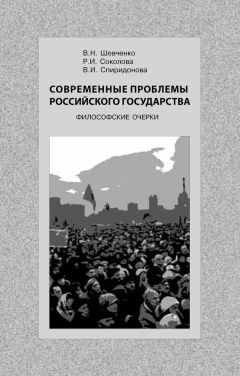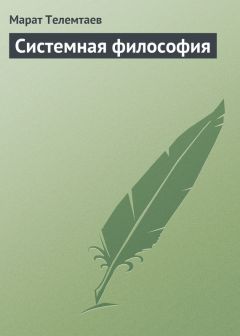Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Национализм. Пять путей к современности"
Описание и краткое содержание "Национализм. Пять путей к современности" читать бесплатно онлайн.
Философская работа известного культуролога, профессора Бостонского университета Л. Гринфельд «Национализм» посвящена актуальному вопросу формирования национального самосознания в России, Англии, Франции, Германии и США. Какие предпосылки приводили к возникновению наций? Что за люди стояли у истоков, какие события влияли на этот процесс? Почему столь различными оказались как пути развития, так и сформированные национальные идеи? В своем фундаментальном труде автор детально и глубоко разбирает упомянутые проблемы в историческом контексте, начиная с зарождения наций и до сегодняшнего дня. Точка зрения автора во многом революционна, но исключительно убедительна, благодаря привлечению огромного количества фактологического материала: исторических трудов, свидетельств, писем и литературных источников, в том числе редких. Свои мысли автор излагает увлекательно и остроумно, что нечасто встречается в научной и даже научно-популярной литературе. Все это делает книгу интересной не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
Поскольку французская королевская династия была сакрализована, то служба и верность королю непременно приобретали религиозный смысл. Смысл состоял в христианском благочестии. Французское общество объединял и создавал культ, а, следовательно, церковь. В силу того, что это была своего рода христианская церковь, король, выдвигавший и формулировавший свои требования по части верноподданичества, опирался на западно-христианскую традицию. Словесная демонстрация специфически французской преданности королю существовала во Франции еще с XIV в., и в практически неизмененном виде перешла во французский патриотизм. Те же выражения, только менее цветистые и более церковные, использовались при традиционной демонстрации христианского благочестия. Французской монархии придавался религиозный смысл, поэтому защита короля (defenso regni) имуществом или жизнью и служба королю приравнивались к служению Богу. Кроме того, и гораздо более определенно, чем в других странах, это была форма религиозной практики в соответствии с принципами христианского альтруизма – служение Господу через служение Его избранникам.
Средневековый amor patriae – патриотизм был в основе своей христианским чувством в обоих вариантах – и когда patria осмыслялась как «рай», и когда это относилось к месту рождения. В Средние века patria только в редчайших случаях обозначала государство, королевство в целом. На военную службу, в частности, смотрели как на продолжение крестовых походов. Умереть за свою страну – считалось делом святым и благочестивым. Особенно это подчеркивалось в эпоху Столетней войны. Земная patria, была освящена по религиозной ассоциации и впоследствии могла стать и стала королевством и источником сакральности сама по себе.
В отношении папства и Германской империи короли проводили постоянную политику. Эта политика в сочетании с тем, что корона поощряла расширение культа короля и одобряла участие в этом культе, создавала из Франции отдельное, уникальное единство. Она послужила толчком к зарождению специфически французской идентичности – осознания своей принадлежности к данному единству и принятия его характеристик – и специфически французской преданности, патриотизма – верности данному единству. Изначально религиозная по существу и олицетворяемая королем и королевским родом, Франция постепенно приобретала иные культурные и институциональные черты и становилась образом, самостоятельным образованием, чье существование, хотя и смешавшееся с существованием короля и королевского рода, тем не менее полностью с ним не идентифицировалось.
Наиболее важными отличительными характеристиками французов, наряду с их суперблагочестием, были французский язык, французское превосходство в учености и в литературе, французское право и строй французского общества. Выбор этих характеристик был неслучаен и не являлся результатом простого эмпирического наблюдения. Начать с того, что некоторые из них уж точно не были характеристиками ни территории, ни населения. Но поскольку часть этих характеристик, а именно закон и структура (общественный строй), не могла относиться исключительно к личности короля, то неизбежно их выразителями становились земля и народ. Все эти черты, однако, находились внутри широкого спектра признаков французской специфичности, но именно они были одобрены, отобраны из этого спектра и творчески переосмыслены, ибо они были сильными или потенциально сильными сторонами французской культуры и могли быть использованы во взаимоотношениях Франции с другими державами.
Язык
Уже в XIII в. гордость французским языком имела словесное выражение. По мнению авторов этого периода, французский был «самым красивым языком в мире», «сладчайшим», la plus déli table à ouir et à entendre – «наиболее приятным для голоса и слуха». «Сладкий французский язык, – самозабвенно заливались они, – суть самый красивый, изящный и благородный язык в мире. Его больше всех любят, и ему легче всего научиться. Ибо сам Господь сделал его столь сладким для прославления Имени Своего и хвалы. Он сравним только с тем языком, на котором ангелы говорят в раю». Бедность этого языка, которую признавали тогдашние переводчики, бывшие в числе его главных апологетов, привела к тому, что они стали вводить в него многочисленные латинизмы. Но это ничуть не умерило пыл патриотов от языкознания. Оды французскому языку продолжали появляться – иногда на латыни – как в случае Жеана де Монтрейля (Jean de Montreuil), который полагал, что превосходство французского над другими европейскими языками, в особенности над английским и немецким, заключается в его чистоте и оригинальности. Французский, по его мнению, не испытал чужеродного влияния, которое испоганило упоминаемые выше языки, поэтому он в совершенно определенном и достаточно забавном смысле отличался от немецкого и воспринимался как Ур-язык.
Энтузиастов не смущал и тот факт, что воспеваемый ими французский не был языком Франции. На нем говорили в Париже. Это был «парижский французский», по происхождению являвшийся франкским языком, на котором говорили во Francie и на землях между Соммой и Луарой. В X–XI вв. эти земли составляли домен графов Парижских – родоначальников Капетингов. На нем не говорили и длительное время не писали во всей остальной Франции. В XI и XII вв. письменность, согласно Сюзанне Ситрон (Suzanne Citron), была в основном на англо-норманском. А с XIII по XV вв. авторы писали, соответственно, на Пикардийском, Шампанском или Бургундском, в зависимости от провинции и от их родного диалекта.
В то же самое время, начиная с XII столетия, парижский французский становится международным языком высших классов, что и позволяет некоторым авторам сделать вывод, что он был всеобщим языком (commune à totes gens). Уже в 1148 г. тот, кто не знал французского, считался варваром. Французский был языком Восточного государства крестоносцев, а в XIII в. на нем говорили при дворах Англии, Германии и Фландрии. Он также стал литературной нормой для многих писателей, живших за пределами Франции. Колетт Боне называет Брунетто Латини (Brunetto Latini), Мартино да Канале (Martino da Canale), Марко Поло (Marco Polo), Филиппа де Новаре (Philippe de Novare) – итальянцев, которые писали на французском.
Однако став языком высших классов, парижский французский вступил в соревнование с латынью – языком священных текстов. В течение длительного времени латынь также оставалась языком науки и права и нормой вежливого дискурса. В 1444 г. Жеан Д’Арманьяк (Jean d’ Armagnac) предпочел вести переговоры с англичанами на латыни, признаваясь, что он «недостаточно владеет французским языком, особенно письменной речью». Ренессанс внес свой вклад в повышение престижа и оценки латыни, так что к окончанию Средневековья вряд ли кто сомневался в том, что никакой другой язык ее не заменит.
Языковая политика короны была недостаточно последователь ной. В то время как Филипп Красивый на севере Франции сделал французский языком официальных документов, на юге чиновники все еще использовали латынь. И только через 200 лет, указом Виллье-Коттре (1539) при короле Франциске I, французский стал языком всех официальных мероприятий. И еще одно столетие потребовалось для того, чтобы Людовик XIII Бурбон в кодексе Мишо 1629 г. декретировал обязательное использование французского при регистрации крещений, браков и похорон.
Во времена Средневековья население Франции говорило по крайней мере на пяти языках (лангедойском, лангедокском, баскском, бретонском и фламандском). У некоторых из этих языков существо вали достаточно значимые диалекты. Парадоксально, но отсутствие языковой общности, а именно собственно французского языка, было скорее предметом гордости патриотов от языкознания. Данного факта они совершенно не стыдились, считая, что он ярко свидетельствует о внушительной величине королевства, которое столь выгодно отличалось от смехотворно малюсенькой Англии с ее всего лишь одним языком [12]. Тем не менее подобное положение ничуть не помешало тому, что парижский французский представляли и называли всеобщим французским языком. А с XIV в. в атмосфере растущего уважения к «родным языкам» он стал объектом пылкой любви ученых и литераторов – людей, которые создавали символы коллективной идентичности. В результате язык стал центральным символом французской идентичности и в конце концов объективной характеристикой французского этноса.
Translatio Studii
Убеждение во французском культурном превосходстве тоже, очевидно, зародилось в умах кучки ученых мечтателей. Зиждилось оно на статусе Парижского университета в средневековом ученом и литературном мире и на понятии «Translatio studii». Парижские школы, которые числились среди наиболее знаменитых теологических центров Запада, в начале XIII в. объединились в университет. Преподавание велось на латыни, а студентов и профессоров набирали изо всех угол ков западного христианского мира. Университет был очень популярен, многие выпускники его стали потом принадлежать к высшему духовенству, как родному, так и иностранному. И выпускники разносили славу своей Alma Mater по всему миру. Понятие Translatio studii, то есть перенос обучения из центров классической античности в Париж, отражало главенствующую позицию Университета в respublica Christiana. Париж становился прямым наследником Афин и Рима, подразумевалось, что он стал новыми Афинами и Римом. Но, будучи наследником Рима и Эллады, Париж все же принадлежал другой культуре. Сильной стороной Парижа была, скорее, теология, а не философия и математика – как в Афинах, или право – где блистал Рим. Упор на богословие как на главную мощь Парижского университета еще более усилил коллективное самовосприятие Франции в качестве оплота наивысшего христианского благочестия. Университет отражал суть королевства, в котором он был возведен. Но одновременно возникла и другая тенденция – в связи с растущим напряжением между Францией и папством ученые стали считать университет и, соответственно, самих себя средоточием мудрости, которая была скорее христианской во французском варианте, чем общехристианской. До конца XIII в. они были полностью преданы королю и университету, который называли fille du roi – «дочь короля». Понятие translatio studii приобрело новый важный смысл. Оно уже не означало, что процесс обучения перешел в христианское учреждение – Парижский университет, каковому повезло стать наследником почитаемой, но языческой античности, скорее, произошла смена культурного лидерства – от Греции и Рима эстафету приняла Франция. Но вместе с тем, определение французской культуры как культуры преимущественно теологической тоже изменилось. Итальянские гуманисты оспаривали мнение, что культура – это прежде всего религия и обучение теологии. На первое место они ставили поэзию и риторику. Парижские академики смотрели на ученый и литературный мир глазами итальянских гуманистов и жаждали доказать, что и в сферах мирских Франция тоже находится на высоте, а то еще и повыше иных-прочих. В XIV в. светская литература существовала лишь в зачатке. Соревнование скорее подстегивало, чем обескураживало французских интеллектуалов. Действительно, тогда мало было собственных гениев, способных сравниться с Данте и Петраркой. Но на этой едва занимающейся заре современности мечта о культурном превосходстве приобретала характер уже свершившегося дела.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Национализм. Пять путей к современности"
Книги похожие на "Национализм. Пять путей к современности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности"
Отзывы читателей о книге "Национализм. Пять путей к современности", комментарии и мнения людей о произведении.