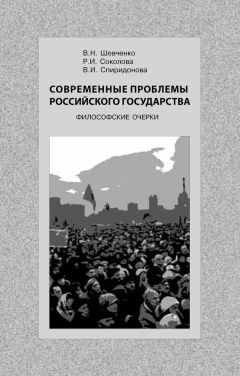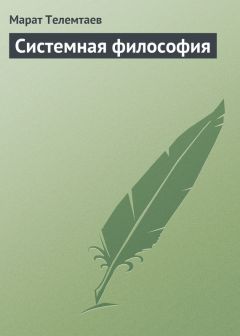Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Национализм. Пять путей к современности"
Описание и краткое содержание "Национализм. Пять путей к современности" читать бесплатно онлайн.
Философская работа известного культуролога, профессора Бостонского университета Л. Гринфельд «Национализм» посвящена актуальному вопросу формирования национального самосознания в России, Англии, Франции, Германии и США. Какие предпосылки приводили к возникновению наций? Что за люди стояли у истоков, какие события влияли на этот процесс? Почему столь различными оказались как пути развития, так и сформированные национальные идеи? В своем фундаментальном труде автор детально и глубоко разбирает упомянутые проблемы в историческом контексте, начиная с зарождения наций и до сегодняшнего дня. Точка зрения автора во многом революционна, но исключительно убедительна, благодаря привлечению огромного количества фактологического материала: исторических трудов, свидетельств, писем и литературных источников, в том числе редких. Свои мысли автор излагает увлекательно и остроумно, что нечасто встречается в научной и даже научно-популярной литературе. Все это делает книгу интересной не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
Объем и замысел книги не дают возможности исчерпывающего изложения и многие захватывающие детали пришлось опустить. Тем не менее я постаралась не слишком упрощать и не делать обобщений ради обобщений. Целью моей было – не конструировать возможную модель реальности, а объяснить реальность, фактически возникшую. Мне хотелось, чтобы мой анализ отразил сложность этой реальности, даже когда я эту реальность препарировала, и сохранить хотя бы частичку того особого аромата различных эпох и обществ, о которых я написала. Я попыталась «залезть в шкуру» героев своего повествования, чтобы понять, как им жилось и думалось, ибо без этого я бы не смогла понять, как и почему их жизненный опыт трансформировался в те силы, которые повлияли на нашу жизнь. Поэтому было необходимо погрузиться в исторические детали.
Основанием для моей интерпретации послужили свидетельства очевидцев, оставленные ими в законах и официальных заявлениях, так же как и в литературных и научных трудах, в дневниках и частной переписке. Я старалась в основном полагаться на первоисточники, используя вторичный исторический анализ для того, чтобы ориентироваться там, где мои собственные знания о них были недостаточными. Эта вторичная литература открыла для меня документы, о которых я не знала, а благодаря им и те библиотечные полки, книги с которых с тех пор стали для меня нитью Ариадны. Время от времени я использовала вторичную литературу как источник информации, цитируя малоизвестных писателей или архивные и труднодоступные материалы. Где только возможно, я признаю свой долг перед другими учеными.
Меня приводила в смущение сложность исторического материала, а периодически обескураживал недостаток данных. Временами я отчаивалась в своей способности не погрешить против этих данных и тем не менее их осмыслить. Я сомневалась в возможности существования исторической социологии (и как исторической, и как социологии). Когда, обложенная кипами словарей, я прилагала все усилия к тому, чтобы представить и истолковать данные на английском языке, я всегда остро осознавала, что такой великолепный инструмент, как этот язык, требует гораздо лучшего мастера. Меня часто угнетало мое недостаточное знакомство с ресурсами этого инструмента, но я радовалась их очевидному обилию.
И все же решимость моя была неизменной – ее укрепляло мое твердое убеждение в том, что национализм занимает центральное место в нашем существовании и что понять его сегодня – жизненно необходимо. Мою решимость поддерживали неотразимо увлекательная природа социальных процессов и пример людей, которых я изучала, людей, создавших целый новый мир, а не просто написавших о нем книгу. У одного из них, никогда не унывающего американца Сэма Пэтча (Sam Patch), своего рода уменьшенного Дэви Крокетта, я позаимствовала девиз: «С одним и тем же успехом можно делать разные вещи»[2] [19].
Надеюсь, мои читатели отнесутся ко мне со снисхождением.
Глава 1. Божий первенец. Англия
Множество людей, которые удерживаются вместе с помощью силы, пусть и под одной и той же властью, нельзя назвать множеством людей, объединенных правильно, такое сообщество (body) также не является НАРОДОМ. Именно общественный союз, конфедерация и общее согласие, основанное на некоем общем благе или интересе, объединяющем участников такового союза в общность (community), и делают людей единым НАРОДОМ. Абсолютная Власть уничтожает the publick (общественность), а там, где этой общественности нет, там, в действительности, нет ни Родины, ни Нации.
Энтони Эшли Купер, Эрл ШафтсбериБожий первенец. Англия
16 мая 1532 г. английское духовенство официально признало Генриха VIII верховным главой церкви, а сэр Томас Мор подал в отставку с поста лорда-канцлера. 6 июля 1535 г., после того, как его обвинили в измене, великий ученый и автор «Утопии» был обезглавлен. До самого конца он настаивал на единстве христианского мира. За свою судьбу в ответе он сам. Сэр Томас Мор был христианином: он предпочел скорее умереть, чем признать верховную власть короля в делах англиканской церкви и отринуть власть Папы. Причины подобного поведения были описаны им в письме от 5 марта 1534 года к Томасу Кромвелю – главному организатору отделения Англии от Рима. Томас Мор писал: «Я никогда не слыхал и не читал ничего такого, что бы могло подвигнуть меня на то… чтобы отречься от главенства Папы, данного нам Богом, ибо, ежели бы мы это сделали… то даже я и представить себе не могу, что бы из этого воспоследовало, ибо главенство сие установлено телом Христовым и для великой и неотложной борьбы с ересями, и подкрепляется главенство сие своим успешным, более чем тысячелетним существованием. И поскольку весь наш мир христианский единое тело есть, не можно мне вообразить, как какой-либо орган его может без общего согласия тела всего отделиться от общей главы».
В апреле того же года от Мора потребовали дать присягу the Act of Succession, а поскольку он отказался подтвердить отрицание верховной папской власти, подразумеваемое в этой присяге, то его заключили в Тауэр. Его искренне пытались убедить отказаться от своего мнения и спасти от королевского гнева и связанных с ним последствий, но попытки эти провалились. Уже будучи в Тауэре, он писал об этих попытках: «И тако рек мне my Lord of Westminster, что каким бы не казалось дело моему собственному разуму, мне надобно опасаться, что собственный разум мой заблуждается, ибо зрю пред собою великий совет королевства, убеждающий мой разум в сем, и потому мне должно переменить свою совесть. Я ответствовал, что, ежели б на моей стороне находился только я сам, а на другой – весь Парламент, я бы сугубо устрашился противопоставлять единственно разум свой столь многим умам. Но, с другой стороны, в сих вещах, из-за коих отказался я давать присягу, я имею (мнится мне) на своей стороне столь же великий совет и даже более великий. И посему не обязан я переменять свою совесть и заверять в сем совет одного королевства, супротив общего совета всего христианского мира» [1].
Сэр Томас Мор был христианином, такова была его идентичность, и все его роли, функции и обязательства, которые из нее не проистекали, но подразумевались (как, например, то, что он был подданным английского короля), были для этой идентичности несущественны. Убеждение в том, что «одно королевство» может быть источником истины и требовать абсолютной верховной власти, казалось ему абсурдным. «Королевства» были всего лишь искусственными второстепенными подразделениями в абсолютно неразделимом теле христианства. Важно отметить, что причиной такого его поведения, как он сам это представлял, было вовсе не спасение души. Его отказ признать главенство короля был основан на чем-то отличном от преданности догме. Скорее, Мор отказывался потому, что не мог отрицать вещи, кажущиеся ему совершенно очевидными. Сэр Томас видел мир сквозь призму донациональной Эры. Для него позиция судей была непостижима. Он не смог осознать, что они уже изменились и для них – быть англичанами уже не было несущественным видом преданности, как это было для него самого, а стало самой сердцевиной их существования.
Более чем 400 годами позже его судебный процесс приобрел глубоко символическое значение. Тогда друг другу противостояли два фундаментальных мировоззрения – донациональное и национальное. И поскольку эти мировоззрения определяли саму идентичность человека, никакой промежуточной позиции между ними быть не могло; там была когнитивная пропасть, явственный разрыв в континууме. Объединенный мир, который видел своим внутренним зрением сэр Томас Мор, был миром исчезающим, и автор «Утопии» был одинок на фоне растущего числа неофитов новой национальной веры.
Резкий сдвиг в этом отношении, который выражался в том, что слово «нация» стало применяться, когда речь шла о народе, и который в разных смыслах означал начало современной эпохи, начался уже в 30-е гг. XVI в. [2]. В течение XVI в. этот сдвиг захватил значительную часть населения Англии, и к 1600 г. существование в Англии национального самосознания и идентичности и, как результат, нового геополитического единства нации, стало фактом. Нация воспринималась как сообщество свободных и равных личностей. По своему глубинному смыслу это было гуманистическое понятие и базировалось оно на нескольких предпосылках. Главной среди них была вера в то, что человек есть активное, изначально разумное существо. Разум был определяющей характеристикой человечества. Обладание им, то есть умение рассматривать и делать выбор между альтернативами, давало человеку право решать, что для него является лучшим и было основанием для признания независимости личной совести и принципа гражданской свободы. Более того, поскольку люди в этом очень важном отношении были равны, то в принципе они имели равное право на участие в коллективных решениях. Таким образом, подразумевалось, что в природе человеческой натуры заложено политическое участие, активное членство в политическом сообществе, к которому данный человек принадлежит – то есть то, что мы сейчас понимаем как гражданство. Поэтому патриотизм – гражданская добродетель Возрождения и ревностное служение своему политическому сообществу – стал рассматриваться не только как добродетель, но и как право.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Национализм. Пять путей к современности"
Книги похожие на "Национализм. Пять путей к современности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лия Гринфельд - Национализм. Пять путей к современности"
Отзывы читателей о книге "Национализм. Пять путей к современности", комментарии и мнения людей о произведении.