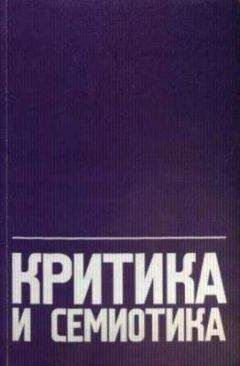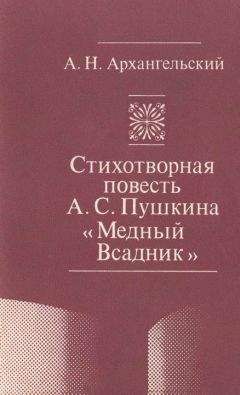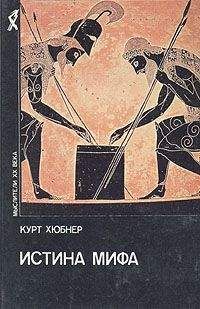Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"
Описание и краткое содержание "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике" читать бесплатно онлайн.
Культурологическое эссе посвящено выявлению интерпретационных шифров орфического мифа в мировой культуре. Столетие назад И. Анненский проницательно заметил, что античный миф определяет не только материал, но и самые формы нашей творческой мысли. Критерий здесь не точность, а глубина… Это область открытий, откровений, предузнаний и экзистенциальных догадок. Границы эссеистического хронотопа от Пушкина и Ж. Нерваля до Вл. Набокова и У. Одена. Но логика развития исследования диктуется не хронологией, а ассоциативной и непредсказуемой связью интерпретационных смыслов. Орфический миф показывает, как старая истина и ее новое художественно-философское понимание могут быть связаны воедино.
В более широком разговоре на тему «ада» приходится помнить, что художник не мыслим без внимания к недрам человеческого существования и к той бездне, которая открывается в самом человеке: «широк, слишком широк человек, надо бы сузить». Но заглянуть в бездны, «Где тихо веет, – по словам Брюсова, – Дионис»[50], и не погибнуть может только тот, кто верит в преображающую силу искусства, в преодоление хлябей самой силой искусства. Задача поэта аналогична замыслу Орфея: проникнуть в царство Хаоса и вернуться по следу, оставленному Словом. Об этом «Баллада» Вл. Ходасевича, где искусство претворяет и самого стихотворца:
…И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.
Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.
И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.
И в плавный вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.
И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает – Орфей[51].
Во втором черновике «Баллады», вызвавшей полемический отклик Г. Иванова – «И пора бы понять, что поэт не Орфей»[52], – предполагалось продолжение. В дополнительной строфе теургическое начало орфической музы, о котором во времена поздней античности писали как о способности Орфея «править грубой жизнью»[53], характеризовалось уже совершенно по-соловьевски:
Недвижному, косному миру
Проснуться настала пора.
С уснувшего, косного мира
Спади, роковая кора![54]
В этой строфе зависимость Ходасевича от Вл. Соловьева совершенно очевидна; припомним, например, стихотворение «Три подвига», которое первоначально называлось «Орфей» и в котором Вл. Соловьев писал о трех подвигах: резца художника (Пигмалион), меча рыцаря (Персей или Геракл) и… подвиге креста, т. е. теурга. По Соловьеву, спасение Эвридики – подвиг именно креста, иными словами, священнодействия, определяемого философом как «реализация человеком божественного начала во всей эмпирической, природной действительности»[55]. При этом Орфей мыслился прообразом Христа, а Эвридика – олицетворением «потенциально живой природы»[56].
В результате миф об Орфее проецировался на мечту о Богочеловечестве. Открывшуюся в Христе «тайну Богочеловечества – личное соединение совершенного Божества с совершенным человечеством» Соловьев считал не только «величайшей богословской и философской истиной», но и узлом всемирной истории[57]. Духовное развитие человечества представлялось русскому мыслителю в виде постоянного, личного и нравственного взаимодействия человека с его живым Богом. По его глубокому убеждению, Христос явился миру как выражение или откровение внутренней сущности Царства Божия и «откроется оно в нас или нет, – говорил Соловьев, – в каждом случае зависит от нашей человеческой стороны, от того, как почва нашего сердца принимает семя Божьего слова»[58]. Вяч. Иванов вслед Соловьеву, которого он считал не только певцом Софии, но и «образователем» религиозных стремлений Серебряного века, «Орфеем, несущим начало зиждительного строя»[59], в статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» писал: «Орфей – движущее мир творческое Слово, и Бога-Слово знаменует он в христианской символике первых веков (…) Призвать имя Орфея – значит воззвать божественно-организующую силу Логоса во мраке последних глубин личности, не могущей осознать собственное бытие: fiat Lux»[60].
Таким образом, спасение Эвридики толковалось как трансцендентный акт, а поражение Орфея рассматривалось как несостоявшийся брак Логоса и плененной Души Мира. Она, по словам Вяч. Иванова, страдает от «незавершенности освободительного подвига», о котором писал Вл. Соловьев, и требует от человека «других и больших усилий». Суть их, как полагал Иванов, заключается в преображении преемственными усилиями поколений «всей культуры – и с нею природы – в Церковь мистическую»[61]. Такая Церковь – вселенский анамнезис во Христе, который знаменует воскресение в человечестве Божьего Сына и окончательное освобождение из чувственно-материального плена Мировой Души. «Если человек, отдавая свою душу, – утверждал Иванов, – сумеет всем сердцем своим и всем помышлением своим сказать Богу «Ты Еси, и потому есмъ аз», если он сумеет сказать Христу в лице своего ближнего: «Ты еси, ваш я; я есмъ, потому что ты еси», тогда он вновь обретет свою душу, начнет жить воистину»[62].
Под знаком духовного зиждительства воспринимал миф об Орфее и Андрей Белый. Задолго до Вяч. Иванова, в 1908 году, он писал:»… души наши не воскресшие Эвридики, тихо спящие над Летой забвения: но Лета выступает из берегов: она нас потопит, если не услышим мы призывающей песни Орфея»[63]. Подобного рода предупреждения с обертонами апокалиптических интонаций звучали у Белого и раньше, но в них преобладал культурософский пафос. При этом культура будущего мыслилась как ритм внутренних связей между людьми, а человеческая общность виделась «индивидуальным организмом». В настоящем она представлялась Белому «спящей красавицей», зачарованной сном, ибо представала то примитивной коммуной, то традиционной церковной общиной. Пробудить ее ото сна – значило пробудить ритм внутренних связей между индивидуумами. Тогда «Спящая Красавица» превратится в Софию, Музу жизни, Эвридику… «Лик Красавицы, – писал Белый в статье «Луг зеленый». – занавешен туманным саваном механической культуры, – саваном, сплетенным из черных дымов и железной проволоки телеграфа. Спит, спит Эвридика, повитая адом смерти, – тщетно Орфей сходит в ад, чтобы разбудить ее (…) Пелена черной смерти в виде фабричной гари занавешивает Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном»[64]. Здесь образ Орфея осенен и цивилизаторской миссией, он восходит к той литературной традиции, зачинателем которой оказался Гораций. Почти через сто лет греческий оратор Дион Хризостом вернулся к идее римского поэта, хотя мнение о цивилизаторе Орфее он высказал на апофатический манер. Утверждая, что силой своего искусства Гомер превосходил всех, даже Орфея, Дион, как бы оправдывая сравнение, сказал: «Ведь разве заколдовывать камни, растения и диких зверей – это не то же самое, что подчинить себе варваров, для которых чужды сами звуки эллинской речи, которые не знают ни языка, ни событий.»[65].
В русской поэзии первых лет нового строя образ цивилизатора Орфея был подхвачен Б. Лившицем и О. Мандельштамом. Он выступал как носитель мудрости, призванной найти имя явлениям и вывести русскую культуру из Эреба. Обращая на это внимание, М. Гаспаров отмечает близость стихов Лившица «Глубокой ночи мудрою усладой.» с двумя главными, развивающими образ Орфея, стихотворениями Мандельштама – «Чуть мерцает призрачная сцена….» и «В Петербурге мы сойдемся снова…» Он пишет: «Образ Эвридики многозначен: это и «русская Камена» (см. у Б. Лившица: «Из царства мрака, по следам Орфея, Я русскую Камену вывожу». – А. А.), и европейская культура, и Ольга Орбенина, – но мифологическая роль этого образа недвусмысленно символична: как Орфей, чтобы воссоединиться с женой, должен пройти путь, не оглядываясь на нее, так создатели новой культуры, чтобы продолжить старую, «кровью склеить век», должны отвернуться от нее на время революционной ломки»[66].
Такая интерпретация «орфической» коллизии лирики Мандельштама представляется безусловной, но она более семейотична[67], чем семиотична; и в самом деле, миф об Орфее и Эвридике открыт для самых широких толкований. Одно из крайних суждений о его смысле обнаруживается в стихотворении Л. де Камоэнса «Два фавна», где концентрацией более, чем неординарного мнения оказывается заключительная строка фрагмента:
Что, нимфы гонит вас?
Лишь ненавистью к чувствам человечьим
Снедаемы, вы стали столь резвы.
От терний вам сейчас,
От веток жестких защититься нечем,
Не нас, а плоть белейшую, увы,
Язвите нынче вы!
Ведь Эвридика, знайте, избежала
Объятий, но не гибельного жала!
Гесперия младая точно так
Сошла в загробный мрак, —
К змее спешить возможно
Кто отвергает ласки – свой же враг[68].
Но Орфей не фавн, а кифаред, лирник. Стало быть само искусство. В этом ракурсе поворот Орфея прочитывается как сомнение художества в своей власти. Потребность кифареда в очевидных доказательствах своей непреложной власти и стало причиной трагического поражения Орфея, ибо искусство чуждо очевидному (недаром Гомер, Демодок – слепцы); оно не должно искать у очевидного какого бы то ни было оправдания: «Цель поэзии – поэзия»[69]. Пока Орфей доверял «памяти сердца», которая, как известно, «сильней рассудка» – он вел Эвридику к свету. Как только певец усомнился, оглянулся – он потерял свою Музу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"
Книги похожие на "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Арам Асоян - Семиотика мифа об Орфее и Эвридике"
Отзывы читателей о книге "Семиотика мифа об Орфее и Эвридике", комментарии и мнения людей о произведении.