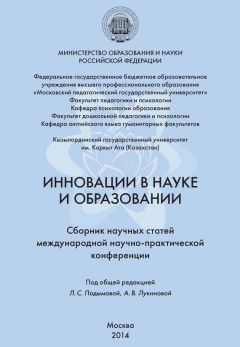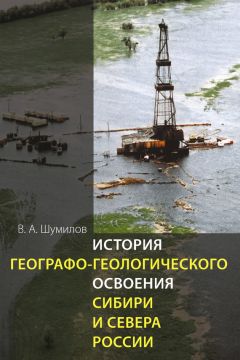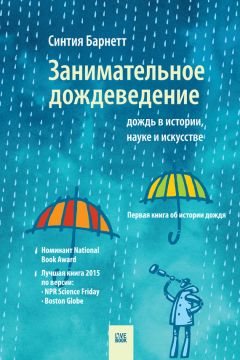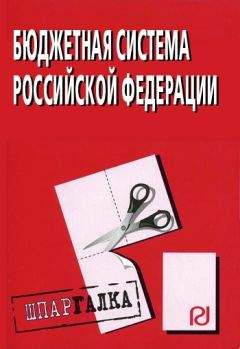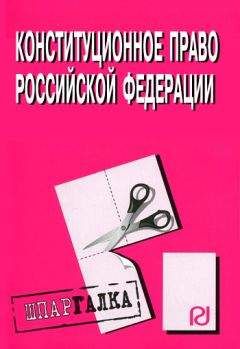Мария Лескинен - Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности"
Описание и краткое содержание "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена истории терминов и понятий, используемых в российской науке XIX в. для описания «другого», – таких как «народность», «национальность», «нрав народа», «тип», «типичное» и т. д. В центре внимания – характеристики поляков и финнов, содержащиеся в этнографических и антропологических очерках народов России и в учебной литературе второй половины XIX в. В монографии предпринята реконструкция этнокультурных стереотипов, позволяющая выявить особенности научного и обыденного восприятия финнов и поляков в русской культуре.
Физический тип. В этнографии, которая вплоть до конца века считалась органической частью географии, а с 1880-х гг. – и элементом антропологии, дискуссиями сопровождался вопрос о критериях классификации народов. Формальные признаки народности были определены в первой трети столетия и не вызывали сомнений: это язык, особенности внешнего облика (уже с 1860-х гг. вполне точно описываемые методами измерения физической антропологии) и быта, а также психические черты (нрав народа). На практике же следует помнить, что собирателями сведений оказывались зачастую неподготовленные наблюдатели, для которых было довольно сложно однозначно ответить на вопрос, на каком точно языке говорят представители исследуемой общности, какой расовый или этнографический тип доминирует в ней.
Больший простор для гипотетических утверждений прежде всего давал вопрос об умственных способностях и душевных качествах народа. Проблему этнографического типа можно считать менее дискуссионной, хотя определенность термина не стала гарантом однозначного его «выбора». Под этнографическим типом мог пониматься тип антропологический или физический – т. е. олицетворением его мог стать представитель определенной группы, обладающий характерными параметрами. Проиллюстрируем эволюцию представлений о способе выявления «типа» на примере рассуждений этнографов и антропологов о великорусском типе в 1860-80-е гг.
Отождествление этнографического и антропологического типов очевидно в известных словах В.О. Ключевского, полагавшего бесспорным, что «надобно допустить некоторое участие финского племени в образовании антропологического типа великоросса»[424]. Этнограф и антрополог И.Д. Беляев, задавшись вопросом о том, представителей какого сословия считать наиболее чистыми носителями великорусского типа, разобрал историю складывания всех сословий русского общества с точки зрения смешения различных этнических компонентов и культур и пришел к заключению, что «крестьянское сословие вообще, несмотря на его великорусский характер, мудрено признать представителем чистоты великорусского типа в этнографическом отношении»[425]. Автор доказывал, что ни одно из сословий современного русского общества не может быть признано таковым, но в наибольшей чистоте он сохраняется в «коренных горожанах старых русских городов и в тех крестьянских общностях, которых прикрепление к земле застало в местностях давно обруселых…»[426].
Таким образом, прежнее ограничение народа / этноса исключительно крестьянским сословием в этнографических описаниях 1860-х гг. претерпевает изменение. Включение городских низов могло быть вызвано, в частности, и начавшимся в пореформенное время процессом модернизации, который стимулировал социальную мобильность – и в особенности крестьянства центральных губерний.
Не останавливаясь подробно на том, как решалась проблема великорусского типа (одна из наиболее спорных в теоретическом отношении) в организационно-научном изучении и в репрезентациях[427], отметим, что в центре дискуссий в ходе подготовки Этнографической выставки 1867 г. в Москве также оказался вопрос об «избрании» великорусского типа. В ходе разработки концепции экспозиции и подборки материалов было принято решение о том, что выставка будет состоять из трех «отделов» – антропологического и двух этнографических – «изображающих племена, населяющие Россию и составляющие с ней славянские земли» и народы мира[428]. Манекены, представляющие различные народы Земли и Российской империи в их естественной бытовой и природной обстановке, должны были быть созданы по фотографиям и «бюстам». Далее по ним художникам следовало выполнить лица и фигуры. Комитет по организации разработал следующие указания: «В отношении выражения лица… желательно правдивое соответствующее действительным условиям характера племени выражение, в котором художник не украшал бы естественные черты данного лица и не уклонялся бы от типичности»[429]. В этом случае, как оказалось, различение типа и идеала стало важной методологической установкой.
В инструкции для фотографов, направлявшихся на север и юг России, дано было детальное определение типичного: «При выборе лица… должно руководствоваться типичностью их, понимая под этим такие лица, которые в данном племени и данной местности встречаются чаще других. В тех случаях, где художник затрудняется выбором лица, то было бы желательно, чтобы преимущественно он пользовался лицами крестьян и купеческого сословия и сельского духовенства»[430]. Здесь физический тип («лица») понимался как наиболее распространенный комплекс различных антропологических параметров (относящийся в первую очередь к данным краниологии), а в социальном отношении, устроители, как видим, руководствовались мнением, обоснованным Беляевым. Собственно теоретическая часть работы по выявлению типов была возложена на фотографов и художников, а не на специалистов-антропологов.
Уже в процессе исполнения этих задач возникли проблемы с определением великорусского типа. СВ. Максимов так объяснял трудность, «с которой сопряжено было удачное выполнение фигур, изображающих великорусское племя»: «Племя это отличается именно тем, что в нем трудно находить одно лицо, похожее на другое, что сплошь и рядом встречаем мы не только у бродячих северных инородцев, но и у кочевых степняков, но и у южных горцев, а в особенности у закавказских и русских армян… Едва ли только не говор один до сих пор может почитаться в числе общих особых примет…»[431]. Здесь указан основной способ выявления типичного – вычленение сходных черт внешнего облика. Но в случае с великорусами определение общих черт для всех многочисленных региональных групп не представлялось возможным.
«Тип»: идеальное / повсеместное. Экспозиция первого отдела, и в особенности великорусского племени, вызвала более всего споров в обсуждении выставки[432]. Некоторые сторонники патриотического направления восприняли теоретические сложности как идеологический просчет. Так, М.Н. Катков, освещая выставку в «Московских ведомостях», с негодованием отмечал непривлекательность предложенного организаторами-учеными облика великорусов. Он считал их «главным племенем» (в значении нациеобразующего этноса) Российской империи и полагал, что этнографическая экспозиция должна доказывать и наглядно демонстрировать посетителям в первую очередь способности и свойства, позволившие ему создать собственную государственность, Империю и исполнять цивилизаторскую миссию в отношении других народов. Катков резко критиковал «физиономии», одежду, сами бытовые сценки, в которых находились фигуры, считая, что они явно проигрывают перед гораздо более привлекательными и достоверными изображениями зарубежных славянских народов. И потому они никак не могут ни доказывать, ни подтверждать превосходство великорусского этноса в Империи (что, по мнению Каткова, и должно было стать одной из целей выставки). Он, в частности, обвинял организаторов в «самоуничижении», усматривая в аутентичности некоторых предметов излишний натурализм: «Мы не видим никакой надобности, – пишет он, – чтобы одежды крестьянина и крестьянки, предназначаемые для хранения в музее, были именно те самые, в которых крестьянин или крестьянка работали целое лето. Разве хорваты, долматинцы, словаки и чехи унаваживают свои поля… в красных, малиновых и белых тонкого сукна одеждах, в каких мы видим их в Московском экзерциргаузе?… Разве киргизы и башкиры всегда в галунах?..»[433]. Не удовлетворил М.Н. Каткова и внешний облик великорусов: «Ни одного, решительно ни одного красивого женского лица из числа по крайней мере 30 собранных здесь женских экземпляров!»[434]. Эта критика примечательна еще и потому, что именно женщины считались многими антропологами наиболее характерными носителями антропологического типа.
Кроме того, он поставил под сомнение сам принцип выборки, оспаривая не только репрезентативность этнического типа, но и принцип определения типичного в целом. Так, о жилище он писал: «И почему же эта жалкая лачуга должна быть признана главным типом наших крестьянских построек?… Отчего же именно самый безобразный из всех типов жилища великорусского земледельца признан типом из типов?»[435]. Катков категорически отверг и другие фигуры (например, малорусского чумака) именно потому, что они изображались в неприглядном облике: «Требовалось представить типы населения, а не обращики разных видов рабочего люда. Трубочист в саже был бы фигурою согласною с действительностью, – но было бы это этнографическим типом?»[436].
Таким образом, Катков не принял один из главных критериев выявления типичного, обоснованный в инструкции Комитета: тип должен отражать реальную, «неприукрашенную» действительность. В его упреках слышится обвинение в субъективности не столько организаторов, сколько собирателей «типов», ведь именно на них была возложена задача их определения, а они исходили, по всей вероятности, из различных представлений о наиболее характерных – в первую очередь социальных – группах и занятиях.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности"
Книги похожие на "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Лескинен - Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности"
Отзывы читателей о книге "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности", комментарии и мнения людей о произведении.