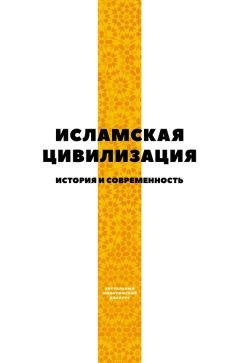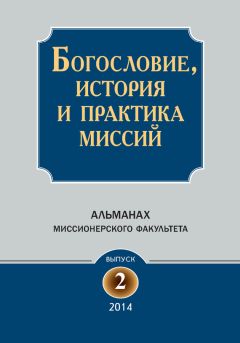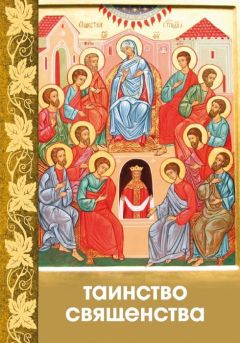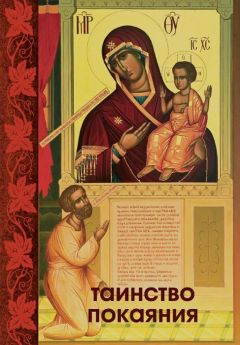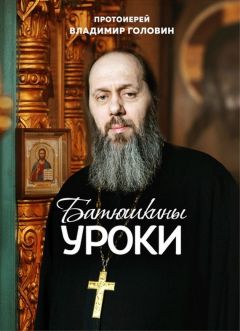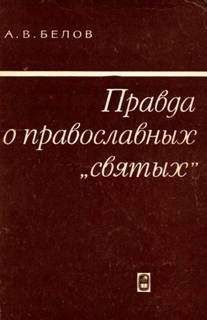Коллектив авторов - Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы"
Описание и краткое содержание "Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы" читать бесплатно онлайн.
Книга отражает некоторые результаты исследовательской работы в рамках международного проекта «Христианство и иудаизм в православных и „латинских» культурах Европы. Средние века – Новое время», осуществляемого Центром «Украина и Россия» Института славяноведения РАН и Центром украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Цель проекта – последовательно сравнительный анализ отношения христиан (церкви, государства, образованных слоев и широких масс населения) к евреям в странах византийско-православного и западного («латинского») цивилизационного круга. Проводимые исследования выявляют существенные отличия (по крайней мере – асимметрию) в отношении к евреям и иудаизму в православных и западнохристианских культурах. Некоторые аспекты этих различий показаны в собранных в сборнике статьях.
Совсем неожиданные, на первый взгляд, контакты имел, очевидно, и Иван Солтан. Б этой связи заслуживает внимания не только то, что «юнейший» из Солтанов упомянут в послании Сиксту, как и в известном сообщении Сакрана[293], рядом со своим знаменитым братом, а и то, что, будучи автором или соавтором упомянутого документа, он фигурирует в нем как «благочест[н]ый светлый в божественных писаниях книголюбец кир Иоан[н]». Представляется, что этот пышный титул дает основания отождествить его с другим книжником, известным как «кир Иоанн», – автором труда под названием «Жил стрекание», представляющего собой медико-астрологическое пособие по кровопусканию[294]. Правда, авторство это было несколько иллюзорным, поскольку, обращаясь к «аввоосвященному кир Алексею», которому в виде послания адресовалась упомянутая книга, «кир Иоанн» прямо задекларировал компилятивный характер своего сочинения – то, что он использовал („собрав воедино и… исправя, предложих») труды «римских, ел-линских и халдейских докторов и астрологов».
Особенно примечательно то, что среди работ, упомянутых «кир Иоанном», встречаются «Астрономия», «Альманах», «Аристотелевы врата» и «Шестокрыл» – т. е. книги, ассоциировавшиеся с литературой «жидовствующих», которые в середине XVI в. были внесены в индекс запрещенных в России «злых ересей», включенный в «Стоглав» и «Домострой»[295].
Даже в XVII в. те, кто пользовался этими книгами (в частности, «Шестокрылом», который «кир Иоанн» рекомендовал как пособие для определения фаз луны и времени солнечных и лунных затмений), считались «зело мерзостными пред Господом Богом»[296]. Во времена же Ивана Грозного любителей таких книг ожидало не только отлучение от церкви, но и «великая опала» от царя. Именно поэтому вызывает сомнение отождествление автора «Жил стрекания» с Иваном Рыковым, который считается псковским книжником из окружения Ивана Грозного[297] – тем более что основной труд, приписываемый Рыкову (одиозная книга Рафли, также внесенная в индекс книг, запрещенных Стоглавым собором)[298], дошла до нас в форме послания, адресованного все тому же «кир Иоанну».
Параллельно, думается, нужно пересмотреть и гипотезу относительно авторства Рыкова в отношении книги Рафли, основанную на объединении заголовка („Предисловие святцам, творение грешнаго раба Иоанна Рыкова») с помещенной ниже информацией о «выходе» автора «со царем Иоанном Васильевичем… от нас и от наших псковских предел в царьствующий град Москву» (с. 290). Если мы откажемся от постулируемого A.A. Туриловым и A.B. Чернецовым отождествления Ивана Васильевича с Иваном IV, отдав, вместо этого, предпочтение его деду Ивану III[299], то, с одной стороны, синхронизируем его с уже известным нам «кир Иоанном», а с другой – откроем качественно новую страницу в истории пресловутой новгородско-московской ереси, известной как движение «жидовствующих», чьи сторонники, как известно, в течение длительного времени пребывали в ближайшем окружении Ивана III[300].
Поскольку обе упомянутые нами книги-»послания» – «Жил стрекание» и Рафли – находятся в самой тесной связи[301], не представляется произвольным допущение, что составителем второй был адресат первой – «авво-освященный кир Алексей», в котором нетрудно узнать духовного лидера «жидовствующих» Алексея[302]; он, как известно, прибыл в Москву в свите Ивана III, который сделал его протопопом главного кремлевского храма – Успенского собора. На правомерность такой идентификации указывают как ссылка составителя книги Рафли на его духовных «чад», на «нас и нашу братию» (с. 291, 294), так и имя одного из этих «братьев», мимоходом упомянутое в книге – псковича Захария, в котором безошибочно угадывается его соратник и единомышленник из псковского Немчинова монастыря, который после смерти Алексея характеризовался как «ересем началник»[303].
Кроме того, находит подтверждение еще один факт из истории «жидовствующих», на опровержение которого потратил в свое время столько сил Я.С. Лурье: связь Алексея с ересиархом Схарией, спровоцировавшего, по утверждению Иосифа Болоцкого, движение «жидовская мудрствующих». Дело в том, что в последнее время доказана не только историчность Схарии, которого все тот же Лурье считал литературной фикцией, но и то, что именно он перевел труды по логике Маймонида и Аль-Газали, составившие сочинение, известное как «Логика сиречь словесница»[304]. Между тем уже издатели книги Рафли отметили характерное текстуальное совпадение между этой книгой и «Логикой» – ссылку на Аристотеля как «главу всем философам, первым и последним»[305]. По наблюдениям М. Таубе, эта фраза отсутствует в «Логических терминах» Маймонида – она заимствована из другой работы философа, «Путеводителя растерянных», и является интерполяцией составителя «Логики»[306]. Нельзя исключить также, что со Схарией связаны и некоторые другие сочинения, из которых состоит книга Рафли, – по крайней мере, в имеющейся тут легенде о персидских мудрецах заметна та же литературная техника, что и в «Логике сиречь словеснице»: переводчик надиктовывал текст своему помощнику[307]. Схожими были и интенции переводчиков: как в «Логике…», так и в легенде о мудрецах исследователи усматривают желание скрыть тот факт, что оригинал имел мусульманское происхождение и был написан по-арабски[308].
К тому же, рассматривая эту легенду (занимающую, по наблюдениям специалистов, особое место в русской письменной традиции и средневековой книжности в целом[309]), нельзя не отметить еще один принципиальный момент: «кир Иоанн» не только знал ее текст, но и использовал его при написании послания Сиксту, придав терминологии документа несколько искусственную форму. Так, употребленное в отношении Ивашенца определение «строитель градский» не имеет соответствий в номенклатуре тогдашних должностей БКЛ – однако фигурирует в упомянутой легенде вместе с тремя подобными („старейшина/епарх/писарь градский»). То же самое, в известной мере, касается упоминания о полочанине Евстафии Васильевиче как о «преболынем в боярех»; полагаем, что с этим «титулом» коррелирует определение одного из персонажей легенды: «муж именем Ептай от бол(ь)ших во граде» (с. 303). Понятно, что в дефинициях «подписантов» послания Сиксту вряд ли присутствует некий «легендарный» (ролевой, символический) подтекст; однако знакомство с легендой «кир Иоанна весьма вероятно – и, соответственно, вероятным является и его знакомство с Алексеем еще до 1476 г.
Вообще же составитель книги Рафли уже в своем предисловии (с. 290) достаточно четко указал, чем является его труд: выписками из перевода (или переводов). Одновременно это его переписывание не было сугубо механическим, поскольку из-под пера «кир Алексея» текст вышел заметно «христианизированным». Чувствуется, что он стремился доказать «кир Иоанну», что отсылаемое ему произведение (являющееся, по сути, пособием по геомантии) не противоречит православной традиции и не содержит в себе «еретического и схизматического умышления». Он подчеркивал, что «сия бо вся дела триипостаснаго божества, Отца и Сына и Святаго Духа» (с. 303), призывал постоянно обращаться мыслями к Богу «в молении и в молитвах, и во всех духовных делах» (с. 301) и, кажется, был убежден, что в сочетании с определенными молитвами ворожба по книге Рафли вполне вписывается в христианский этос. Понятно, что обработанный таким образом текст книги Рафли не кажется целостным; это, однако, никоим образом не означает, что в сознании ее составителя это соединение христианского рвения и интереса к тайным знаниям не было органичным и что он прибегал к «благочестивой» фразеологии лишь в целях маскировки своих еретических интересов.
Правда, в тексте книги Рафли присутствуют элементы камуфляжа (как и во всей литературе «жидовствующих», к которой она примыкает[310]) – в частности, в виде синонимии «Рафли сиречь святцы» (с. 295, 296, 297 и др.)[311], куда более отдаленной, чем «Логика си-речь словесница» Схарии. Однако в настоящее время нам вообще трудно судить о намерениях составителя книги – особенно принимая во внимание то, что она дошла до нас в поврежденном виде. Нельзя не заметить несоответствие содержания названию, фигурирующему во вступительной части этого произведения, – «миротворный круг» (с. 290). Это тем более принципиально, если принять во внимание, что именно в составе «миротворных кругов» сохранилось еще одно произведение календарно-астрономического содержания, которое в одном из многочисленных списков (РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. № 632. Втор пол. XVII в.) названо, как и Рафли, «творением» Ивана Рыкова[312]. Речь идет опять-таки о послании, на этот раз адресованном новому «равноангельному лицу» – «цареву книгчию кир Софронию Постнику»; оно начинается притчей Ό царе-годе», смысл которой толкуется в книге Рафли[313].
A.A. Турилов и A.B. Чернецов относят и это послание к «наследию» Рыкова – хотя такое авторство отнюдь не очевидно. Это подчеркнула уже Р.П. Дмитриева, отметив, что нельзя считать окончательно решенным вопрос о роли Ивана Рыкова в создании цикла статей, начинающихся притчей Ό царе-годе», ведь его имя значится только в одном из нескольких десятков списков и может быть просто поздней припиской[314]. Уместность этого замечания акцентируется тем, что тот же самый текст в 1630 г. был «присвоен» неким Якимом Денисовичем Ивановым, который фигурирует в одном из списков как адресат послания (его имя при этом зашифровано: «возлюбленный о Христе кир, гласный безприступный, громный согласный, гласный паки безприступный» и пр.)[315].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы"
Книги похожие на "Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы"
Отзывы читателей о книге "Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы", комментарии и мнения людей о произведении.