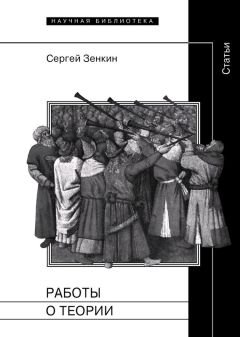Леонид Гурченко - Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона
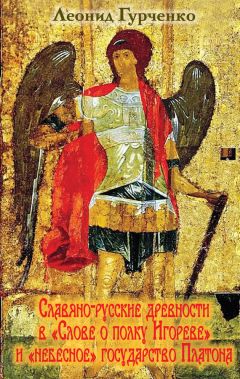
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона"
Описание и краткое содержание "Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена актуальной проблеме – раскрытию смысла русских древностей в виде мифологических образов и речений, не всегда поддающихся толкованию без учёта множества важных нюансов, среди которых: контекст, метод перестановки звуков, языческие символы в качестве заместителей библейских образов и др.
Книга знакомит читателя с новым прочтением текста памятника, со своим взглядом на личность создателя «Слова» и Бояна. Автор уверяет, что содержанием Русского мира была воля к власти рода Ярославичей, полочан – Всеславичей и рода северян – Ольговичей, и что автор памятника отдал предпочтение монархистам Ольговичам, ибо само солнце было за них: «Солнце светится на небеси – Игорь князь в Русской земле». В разделе «Экскурсы» читатель встретит новые, заслуживающие внимания сведения о венетах, славянах и русах.
Л. А. Гурченко – член Общества исследователей древнерусской литературы при Институте мировой литературы им. Горького; автор публикаций в научных изданиях ВАК: в сборнике «Герменевтика древнерусской литературы», «Вестнике славянских культур» (2012–2013 гг.); автор книги «Геракл – праотец славян…» (2012 г.) и поэтического сборника «Первоначальная новизна. То, как есть – в стихах и прозе» (2008 г.).
Давечя – «недавно», от наречия даве («некоторое время тому назад, недавно»).
Если рефрен «О Руская земле! (воины) уже за Шеломянем еси» указывает, что автор не был участником похода (себя он не подразумевает среди участников), то данное предложение имеет решающее значение для определения направления соответствия: от полков Игоря к автору, туда, где он находится. Причем автор находится далеко от участников похода, однако он слышит шум и звон битвы и видит полки Игоря. К созданию своего произведения он приступил вскоре после этих событий, так как шум и звон битвы он слышал недавно («давечя»), следовательно, это год похода – 1185 г.!
Но как автор мог это слышать? Можно предположить, что он принадлежал к «религиозному типу человекобога [святого человека], – по определению Дж. Дж. Фрезера, – в которого Существо высшего порядка [Святой Дух] вселяется на более или менее продолжительный срок и проявляет свою сверхъестественную мощь и мудрость путем совершения чудес и изречения пророчеств» (Фрэзер, 1986. С. 64).
К такому типу принадлежал и Сергий Радонежский, который издалека видел битву Дмитрия Донского с Мамаем (ПЛДР, 1981. XIV – сер. XV в. С. 389).
«Естественная метафизика» непосредственного общения человека с потустронним миром, когда загадочным, необъяснимым способом происходит совмещение события и вести о нём на далёком расстоянии, наблюдалась всегда. Плутарх, например, в «Жизнеописании Эмилия Павла», помимо таких случаев в древние для него времена, обращает внимание читателей на случай, «известный каждому из [его] современников». – «Когда Антоний (Г. Антиний Сатурнин, наместник Верхней Германии, восставший против Домициана в 88 г. н. э.) восстал против Домициана и Рим был в смятении, ожидая боьшой войны с германцами, неожиданно и без всякого повода в народе заговрили о какой-то победе, и по городу побежал слух, будто сам Антоний убит, а вся его армия уничтожена без остатка. Доверие к этому известию было так сильно, что многие из должностных лиц даже принесли жертвы богам. Затем всё же стали искать первого, кто завёл эти речи, и так как никого не нашли, – следы вели от одного к другому, и наконец терялись в толпе, словно в безбрежном море, не имея, по-видимому, никакого определённого начала, – молва в городе быстро умолкла; Домициан с войском выступил в поход, и уже в пути ему встретился гонец с донесением о победе <германцев над Антонием>. И тут выяснилось, что слух распространился в Риме в самый день успеха <германцев>, хотя от места битвы до столицы более двадцати тысяч стадиев (т. е около 3750 км. от Рима до места восстания близ нынешнего Базеля; по прямой около 800 км.). Это известно каждому из наших современников» (Pl. Em. P., 25).
Когда молва опережает реальные вести о событии, произошедшем на далёком расстоянии, и возникает в день самого события, такой случай или несколько случаев об одном и том же событии, есть в «Слове о полку Игореве». И это видно. Великий князь киевский Святослав рассказывает боярам о своём загадочном сне, они же в ответ рассказывают ему о том, что произошло с князьями, не далее как вот, в Половецком поле: все князья захвачены в плен, опутаны железными путинами, войско побеждено, а половцы бросились на Русскую землю грабить мирных жителей. Они знают, что вот («се бо») готские девы запели на берегу Азовского моря, призывают отмщение Шарукану – роду Шаруканову.
В своей молитве-плаче Ярославна говорит, что хотела бы кукушкой полететь к Игорю к месту сражения и утереть ему кровавые его раны. Она знает, что он ранен, и не то что был ранен, а теперь ранен; знает, что сильный злой ветер с моря несёт стрелы на винов её мужа, и что воины истомились от жары и безводья, половцы не подпускают их к воде. Кто мог принести с такими подробностями вести от Азовского моря и нижнго течения Дона до Чернигова, Новгорода-Северского и Посемья? Ипатьевская летопись уверяет, что прибежал в Чернигов некто Беловолод Просович, а с ним и весть пришла о событиях в Половецкой степи. Но путь этот долгий, «кровавые раны» Игоря успели зажить, да и «готские девы» не могли так долго петь. Тогда как Лаврентьевская летопись высказывает более точное и живое суждеие об этом – в духе совмещения события и вести о нём. Там сказано то, что отвергнуть невозможно: «И возвратились с победой великой половцы, а о наших не ведомо кто и весть принёс…» (ПЛДР. XII в. С. 35/359; 368/369).
31
Ничить трава жалощами, а древо стугою к земли преклонилось.
Трава – в фольклоре и мифологии символ простого народа (Мифы, 1988. С. 371).
Древо – четвёртое упоминание Древа жизненного как Древа христианской Руси – символ Креста Христова и самого Христа (см. коммент. № 10,14). Этот образ Древа, с печалью до земли преклонившегося, соотнесён с образом Древа, с вершины которого свергся Див, повелевавший покориться языческой Половецкой земле, «даже до последних земли» – русскому войску Игоря.
32
Въстала обида в силах Дажьбожа внука. Вступилъ Девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы…
Силы Дажьбожа внука. – Могущесво, военная сила, войско Дажьбожа внука, то есть князья и дружины их, а также ополченцы из народа, поддерживающие традицию ортодоксального христианства: борьбу за его утверждение и распространение, так как для победы христианства необходимо употреблять усилие (см. Мф. 11, 12).
Дажьбожий внук – Владимир Святой (см. Коммент., № 28). Поэтому «силы Дажьбожа внука» – это прямые и духовные потомки Владимира Святого.
Вступилъ Девою. – Творительный падеж инструментального, как например, срубил дерево топором. Ср.: «Боже, Богородицею помилуй нас» (Тропари Троичные).
Дева. – По археологическим источникам и устным преданиям удалось выявить племенные признаки богини Девы – она являлась божеством племени северян, родственным полочанам, о чём сообщает «Повесть временных лет», что является дополнительным признаком в пользу полоцкого происхождении автора «Слова о полку Игореве» – его симпатии на стороне северян (о́льговичей) и полочан (Всеславичей). «В Новгороде-Северском, внутри Детинца, на месте, где был выстроен Успенский собор, стоял, по преданию, идол некоего бога (Девы? – Л. Г.) племени северян, и этому богу приносили жертвы» (Золотов Ю. М. Изваяния языческих богов на Руси (письменные известия и устные предания) // Советская археология. 1985. № 4. С 235, 236). «Дива, река Дева, Западная Двина, Duna (Риттих А. Ф. Славянский мир // Расовое учение в России до 1917 года. М.: ФЭРИ – В», 2004. С. 443). И тем не менее, в данном контексте Дева – это скрытый символ Богородицы, подмена метафоры символом, так же как Див, кличущий с вершины дерева, является скрытым символом христианского войска Игоря, когда во время солнечного затмения, «ночью», войско кликнуло на половцев, а те «ужасошася, побегоша» (см. коммент. № 14).
Значение предложения: «Въстала обида в силах Дажьбожа внука, вступилъ Девою на землю Трояню – въсплескала лебедиными крылы на Синем море у Дону плещучи», – преобразование чувства обиды за Русскую землю у воинов Игоря в символический образ крылатой Девы на водах Азовского моря у Дона, пробуждающей лучшие времена, когда это побережье входило в состав Тмутороканского княжества, являясь частью Руссой земли (X–XI вв.). Образ крылатой Девы соотнесён с образом Богородицы, защитницы христиан. «С Ней соотнесено вовлечение природной жизни и космических циклов в сферу христианской святости. Православное пение называет Её «всех стихий земных и небесных освящение», «всех времён года благословение». В фольклоре эти точки зрения на образ Богородицы смешаны «с пережитками натуралистического язычества, указывающими на связь Богородицы с мифологическими образами богини земли (ср. слова персонажа Достоевского: «Богородица – великая Мать-Сыра-Земля есть»), природы, богини-матери» (МНМ. Т. 2, 1988. С. 114, стлб. 2, 3).
Православным тропарям Богородичным известны выражения «матерь твари» и «рождьшия Творца твари, мати Христа Бога», как аспекты образа Богородицы. «Аще и матерь тя тварь позна, но Деву тя зиждитель показа, роди бо плотию Христа Бога нашего, спасающаго душа наша»; «Радуися яже от ангела миру радость приемши, радуися рождьшия Творца твари, радуися сподобльшияся быти мати Христа Бога, агньца и пастыря» (Часовник, 1635–1831. С. 91 об., 92).
В древнейшей иконографии «Софии Премудрости Божией» и «Деисуса» в одних случаях Богородица подразумевается крылатой, в других Она изображена с крыльями. Так, например, в Новгороде София предстаёт в образе крылатого Ангела, который в Троице изображён посредине. В Киеве крылатый Ангел замещён образом Богородицы «Оранты». В традиционном «Деисусе» с Богородицей и Предтечей встречаются композиции, изображающие Богородицу с крыльями (Успенский, 1982. С. 23, Примеч. № 10).
Вместе с тем, образ Девы с лебедиными крыльями может быть связан с причерноморской и славянской змееногой богиней Девой – владычицей земли и воды, покровительницей конной знати и городов. В общем виде мы можем сказать, что славянская Дева-лебедь связана с фракийско-этрусскими представлениями о человеке-лебеде, причастном к богам войны (Мавлеев, 1982. С. 94). Известно изображение «фантастической женоподобной фигуры с крыльями и нимбом» в центральных комарах створок обручей из Киева, найденных в составе клада 1903 г. в ограде Михайловского монастыря (Макарова, 1986. С. 79. Рис. 36. № 222; С. 80. № 2; С. 142. № 222). Понятие смысла этого изображения не обладало информационным содержанием, так как не было знания о значении Девы в «Слове о полку Игореве»: до сих пор не подобрано слов о том, что это не образ Обиды-Девы, а образ змееногой богини Девы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона"
Книги похожие на "Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Леонид Гурченко - Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона"
Отзывы читателей о книге "Славяно-русские древности в «Слове о полке Игореве» и «небесное» государство Платона", комментарии и мнения людей о произведении.