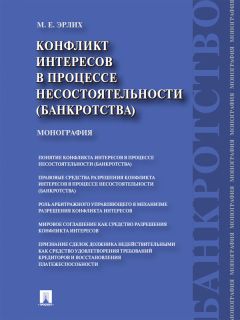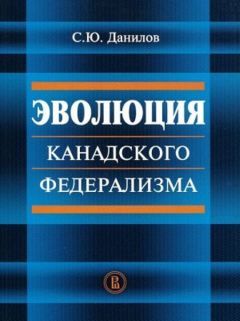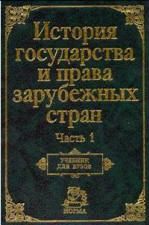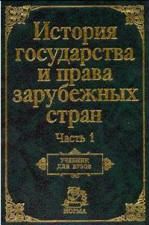Иосиф Левин - Суверенитет

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Суверенитет"
Описание и краткое содержание "Суверенитет" читать бесплатно онлайн.
Настоящая монография написана одним из виднейших отечественных государствоведов прошлого века и посвящена сложнейшей из проблем государственного права и международной политики – проблеме суверенитета. Книга выделяется в ряду изданий, посвященных данной теме, своей фундаментальностью и широтой охвата подходов к разным аспектам суверенитета. Понятие суверенитета трактуется автором как состояние полновластия государства, связанное с монополией и концентрацией властного принуждения в рамках государства.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.
Принцип политического суверенитета избирательного корпуса используется нередко в целях торможения всякого прогрессивного законодательства. Одним из выражений этого, в частности, является принцип мандата, согласно которому в важнейших политических вопросах парламент может поддерживать лишь те мероприятия кабинета, а кабинет может предлагать лишь те мероприятия, на проведение которых имеется прямой «мандат» избирательного корпуса. Так, консервативная оппозиция объявляет те или иные неугодные ей мероприятия, например робкие попытки лейбористов ограничить права палаты лордов, не основанными на мандате избирателей, требуя либо отказа от них, либо проведения новых выборов.
Шаг в сторону сближения английской аналитической школы с немецкой был сделан Брауном, издателем и комментатором Остина[36].
Развернутую юридическую концепцию государственного суверенитета на англо-саксонской почве под прямым влиянием немецких теорий дает американец Уиллоуби.
Теория Уиллоуби служит ярким выражением антидемократизма и реакционности современной науки государственного права США, отказывающейся от старых джефферсоновских традиций и концепций народного суверенитета.
По теории Уиллоуби, государство может рассматриваться с различных точек зрения, однако «аналитическая политическая философия» рассматривает государство как орудие («instrumentary») создания и реализации права. С этой точки зрения политически организованная группа индивидов должна рассматриваться как образующая единство, представляющее собой личность в юридическом смысле слова, т. е. как существующий в представлении носитель юридических прав и обязанностей. Это представление о юридической личности государства и ведет к суверенитету как заложенной в данной личности высшей воле, являющейся источником правомерности любого агента или любого лица, подвластного государству. Суверенитет – это верховная юридически легитимирующая воля («supreme legally legitimizing will») государства. В содержание этого понятия входит правовая компетенция или юрисдикция, которая должна рассматриваться как неограниченная. Суверенитет есть правовое всемогущество («legal omnipotence») государства. Суверенитет предполагает абсолютную компетенцию государства. Само государство устанавливает границы правового регулирования; и, в частности, сфера гражданских и политических свобод личности есть лишь та сфера интересов, которую государство желает видеть защищенной от нарушений со стороны частных лиц или должностных лиц государства[37]. Так, в теории Уиллоуби, под напором неприглядной американской действительности и влиянием немецких идеологов прусско-юнкерской полуабсолютистской монархии, испаряются «традиционные» идеи англо-саксонского «индивидуализма». Отсюда уже недалеко и до теории субъективных прав как рефлексов права.
Если Уиллоуби по существу повторяет немецкие теории прошлого столетия, то сама немецкая юридическая школа вступила в лице «венской школы» Кельзена в новый этап своего развития, вернее, своего разложения.
Нет надобности следовать за никчемными юридико-логическими вывертами кельзеновской теории. Эта насквозь идеалистическая теория в вопросе суверенитета остается верной своим общим посылкам[38]. Из отождествления государства и правопорядка вытекает, что суверенитет государства есть лишь свойство правопорядка, а именно, свойство невыводимости («Nichtableitbarkeit») из какого-либо другого правопорядка. При этом Кельзен понимает самую выводимость формально. Здесь речь идет не о выводимости содержания одних норм из других (например, частных норм из соответствующих общих), но о чисто формальной выводимости значимости норм права или всего правопорядка из другой нормы или высшего правопорядка, отнюдь не определяющей самого содержания «выводимой» нормы низшего правопорядка. По Кельзену, выводима лишь значимость нормы, в то время как содержание ее может свободно определяться соответствующими органами. Таким образом, выводимость – это связанность определенным порядком создания норм права, установленным другим, «высшим» правопорядком, – даже если этот «высший» правопорядок ни в какой мере не предрешает содержания этих норм. Выводимость одного правопорядка из другого Кельзен рассматривает как делегирование последним известных полномочий первому.
Теория Кельзена примыкает к учению о суверенитете права, верховенстве безличных норм права. Представителями этих учений можно считать Кокошкина[39], Елистратова[40] (в его дореволюционных работах), Краббе[41]. Эта теория «отвлекается» от того обстоятельства, что правовые нормы являются нормами права именно потому, что они установлены или санкционированы личностями, представляющими господствующий класс в государстве.
И согласно Кельзену, господствующей может считаться только норма, ибо власть любого правителя имеет силу лишь на основании вышестоящей нормы, а потому должна рассматриваться лишь как заполнение некоей бланкетной нормы. Если данная норма не может быть выведена из какой-либо, выше ее стоящей, если источник ее значимости заложен в ней самой, – то она принадлежит к наивысшему, а следовательно, суверенному правопорядку.
При таком формальном и абстрактном понимании государства и права, игнорирующем реальный характер как самого государства, так и общения государств, маскирующем юридическими фикциями классовый характер государства, нет ничего удивительного в том, что Кельзен в конце концов приходит к рассмотрению отношений между международным правом и государством как отношений делегирования, т. е. «выводимости». С точки зрения Кельзена, международно-правовой принцип эффективности как признак суверенности государств есть не что иное, как делегирование международным правопорядком известных полномочий государственному правопорядку, что по существу означает уже отрицание суверенитета в пользу международного права и превращение самого государства в «частичный правопорядок».
После известных колебаний, нашедших свое выражение в монографии о суверенитете 1920 г., Кельзен твердо встал именно на эту точку зрения отрицания государственного суверенитета.
Теория венской школы в этом вопросе находит поддержку и в теории «социального права» Гурвича, и в теории французского международника Сселя, представителя «интегрального юридического монизма». Ссель считает, что самая идея суверенитета несовместима с идеей правовой межсоциальной системы. Международное право не может гарантировать неприкосновенность сферы внутренней компетенции государств[42].
Таков путь Кельзена и его последователей из лагеря юридического монизма к отрицанию суверенитета. Это путь крайнего формализма и нормативизма, игнорирования, вернее, затушевывания и искажения реальных отношений в области государства и права (подробный критический разбор теорий Кельзена, как и ряда других буржуазных теорий, дан в следующих главах настоящей части).
Словесным противником Кельзена и одним из влиятельных государствоведов Веймарской республики был Герман Геллер, посвятивший проблеме суверенитета специальную монографию[43]. Герман Геллер принадлежит к идеологам крайне правых и националистических элементов германской социал-демократии, открыто выдвинувшим лозунг «назад к Лассалю»[44]. Естественно, что это выражалось прежде всего в концепции государства. Геллер доходит до утверждения, что учение Маркса и Энгельса об отмирании государства было вызвано необходимостью для них «конкурировать» с мелкобуржуазными анархистами. Маркс и Энгельс не хотели-де отстать от Бакунина и Прудона. Это – отвратительная попытка оправдать свое собственное нежелание отстать от буржуазных идеологов государства, свой переход на позицию лассальянства, ведущего, в свою очередь, к Гегелю, к которому можно возвести ряд моментов геллеровской концепции суверенитета.
В этой концепции Геллер выступает как бы противником учения Кельзена, которого он обвиняет в «денатурировании» государства. Впрочем, в этом, по мнению Геллера, Кельзен является лишь продолжателем Лабанда – Еллинека, превративших государство в юридическое лицо, т. е. фикцию или в лучшем случае в абстракцию. Геллер противопоставляет этим концепциям взгляд на государство как на реальную силу, как на решающую инстанцию в социальной жизни. Геллер даже подчеркивает, что научная юриспруденция невозможна «без постоянного учета социологически-эмпирических факторов». Однако эти факторы он понимает по-своему, как и подобает идеологу реформизма, решительно отказываясь признать в государстве орудие классового господства. Извращая действительность, он видит в государстве орудие межклассового «примирения», которое выражается-де в том, что даже рабочие, выступающие против тех или иных государственных законов, ссылаются при случае на рабочее законодательство того же самого государства, тем самым якобы декларируя свое признание государства. В точно таком же положении находится, по его мнению, и предприниматель, который, «скрепя сердце», мирится с неприемлемой для него формой правления или социальным законодательством, поскольку государство гарантирует ему неприкосновенность частной собственности. Таким образом, государство якобы в равной мере является государством как предпринимателей, так и рабочих. Социальная функция государства, являющаяся ключом к постижению суверенитета, заключается в обеспечении «совместного функционирования всех общественных актов на данной территории». В основе государства лежит «всеобщая воля» – воля народа как воля межклассовая и надклассовая, направленная якобы на интересы, общие всем классам, составляющим народ. «Народ» в этом смысле является носителем суверенитета, гарантом единства правопорядка на данной территории. Таким образом, суверенитет государства, по Геллеру, возможен лишь как «народный суверенитет», осуществляемый на основе принципа большинства и принципа представительства. Кокетничая с принципом народного суверенитета, Геллер обвиняет представителей классической юридической доктрины в том, что их «государственный суверенитет» на деле сводился к суверенитету органов и, в частности, к монархическому суверенитету, поскольку государство не могло мыслиться вне органов иначе, как бесплотная абстракция. Но ясно, что Геллер лишь заменяет одну искусственную абстракцию такой же бесплотной абстракцией или, вернее, фикцией, ибо фикцией являются «всеобщая воля» и общий интерес «единого» народа, в действительности разделенного на классы с непримиримыми антагонистическими интересами. Эта фикция прикрывает вполне реальный классовый интерес буржуазии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Суверенитет"
Книги похожие на "Суверенитет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иосиф Левин - Суверенитет"
Отзывы читателей о книге "Суверенитет", комментарии и мнения людей о произведении.