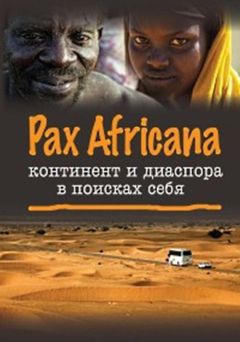Коллектив авторов - Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов"
Описание и краткое содержание "Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов" читать бесплатно онлайн.
В монографии представлены результаты изучения профессорского сословия России как творческого сообщества, создавшего оригинальные традиции, репрезентации, языки самоописания, практики взаимодействия, способы историзации и классикализации собственной деятельности. Международный коллектив авторов работал с университетскими архивами, архивом Министерства народного просвещения, мемуарами и интервью профессоров, научными периодическими изданиями, юбилейными историями и публикациями торжественных речей. Данные тексты анализировались как единый рассказ профессоров «о себе», у которого есть замысел, средства воплощения, работа с потенциальным читателем. Такой подход позволяет освободиться от социальной магии университета, разгерметизировать знание о нем и увидеть в нем рукотворное историческое явление, не равное себе во времени и пространстве.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся университетскими исследованиями и историей российской культуры. Она может быть использована в качестве учебного пособия для обучения на гуманитарных факультетах.
Очередной инцидент (1765–1766) возник в связи с необходимостью отстоять честь университета на внешнем уровне как конфликт с книгопродавцем Христианом Людвигом Вевером: он «всю конференцию поносил грубейшими ругательствами…, говоря: “Нахалы в конференции не должны мне ничего приказывать! Они мне не начальство! Пусть они сначала получат чины, а тогда командуют! Плевал я на всю конференцию!”. Возмутившийся профессор Иоганн Фридрих Эразмус потребовал, чтобы его мнение было внесено в протокол. Он смело заявил: “Совещания господ профессоров в конференциях – ни к чему, и они становятся смешны, если господин куратор легко на другой день отменяет то, что постановила конференция”»[259].
Протоколы доносят до нас обрывки и более серьезного инцидента на внешнем уровне, так называемого бунта профессоров в мае 1764 г. Он был вызван массовым «отзыванием» студентов для государственных нужд (30 человек были затребованы в распоряжение Медицинской коллегии). Куратор Адодуров поначалу игнорировал протесты профессоров, подтвердив свое распоряжение в бесцеремонной форме (побывавший у него «офицер донес, что его превосходительством был повторен на словах тот же самый приказ об их отправлении»). Тогда конференция заявила, что из-за куратора не сможет «провести производство в студенты» и подготовить их к государственной службе. Адодуров отступил, и это было обнадеживающим знаком силы коллегиальных действий[260].
Подобные эпизоды, на мой взгляд, важны не только для понимания обстоятельств выработки норм университетского сообщества. Примечательно, что университетские документы (в данном случае протоколы заседаний) стали использоваться как форма фиксации требований. Это подтверждают размышления Мишеля де Серто о повседневных «стратегиях власти» и разнообразии тактик сопротивления им[261]. Их появление в университетской конференции было явным следствием адаптации бюрократического опыта и его использования в корпоративных интересах. Осознание специфики своей деятельности, ответственность и самодостаточность становятся проявлениями автономного мышления профессоров. Они порождали определенный баланс сил, необходимый в условиях слабости университетской автономии.
Итак, можно констатировать: существовавшая в XVIII в. практика ведения университетского делопроизводства породила полидискурсивный источниковый комплекс. Предназначенные для чтения куратора протоколы включали в себя разнородные тексты, были продуктом разных технологий письма – произвольного описания прошедшего заседания, центонных рассуждений, отчетов о проделанной работе. Само предназначение делало его своего рода коллективной репрезентацией, а перформативный характер источника предполагал определенный отбор свидетельств. Некритическое же использование историками этих материалов в итоге обеспечивает воспроизведение в университетских исследованиях коллективной мифологии профессоров XVIII в.
Я надеюсь, что изучение технологий университетского делопроизводства и фронтальное прочтение всего «снегиревского собрания» без купюр в сочетании с изучением иных источников позволят выйти из шевырёвского видения университетского прошлого и отказаться от практики иллюстративного использования документов. Посредством аналитических процедур работы с документальными понятиями мы можем выявить синхронные смыслы и латентные значения исследуемой эпохи, ощутить неспешный ритм и особый эмоциональный строй университетской повседневности, понять психологию московского профессора, распутать сложную паутину его социальных коммуникаций, родственных и научных связей, а заодно убедиться в необходимости жесткой рефлексии над исследовательскими процедурами историка.
А.Е. Иванов, И.П. Кулакова
Ипостаси русского профессора: социальные высказывания рубежа XIX–XX вв.[262]
Большую часть наших представлений о функциях профессоров российских императорских университетов мы черпаем из законодательных актов правительства и отложившегося в архивах делопроизводства. Это тексты, фиксировавшие или регулировавшие поведенческие практики университетского человека в пределах учебного заведения. То, что применительно к XVIII и первой половине XIX в. в большинстве случаев это совпадало с пространством социальной активности профессора, подтвердили появившиеся в печати в конце XIX столетия воспоминания профессоров и студентов. Мемуары же более позднего времени – начала XX в. – убеждают нас в том, что для рубежа веков характерно расширение образовательного пространства за счет кружков и домашних семинаров, а также выход профессоров за пределы учебных аудиторий, кабинетов и лабораторий в публичное пространство политики, предпринимательства и социальной экспертизы. При этом участие профессоров в заседаниях государственной думы и государственного совета, в министерских комиссиях, в коммерческой деятельности, выступления в периодической печати и прочие социальные высказывания не зафиксировались в протоколах университетского совета и не регулировались университетскими уставами.
Для улавливания этих высказываний исследователь должен расставить более широкие сети, используя как послужные списки профессоров, так и «архивы идентичностей» – частные архивы профессоров, которые в годы советской власти образовали альтернативный по отношению к государственным университетским и министерскому архивам фонд. Так исторически сложилось в России, что, например, в отличие от ситуации в Германии профессорские документы не могли быть сданы в государственный архив при жизни и не выкупались университетом после смерти ученого. Только после революции 1917 г. и кардинального изменения архивной политики в нашей стране домашние архивы стали добровольно и принудительно сдаваться в государственные библиотеки и музеи. Со временем они образовали при них сеть отделов рукописей и письменных источников. Эти «архивы идентичностей» позволяют исследователям анализировать инициативные виды социальной активности российских профессоров начала XX в., реконструировать их сложную социальную идентичность.
Просопографический портрет высказывающихсяПрестижность интеллектуального труда, порожденная модернизационными процессами в поздней Российской империи, растущие грамотность и сеть государственных школ содействовали увеличению сословия русских профессоров. В 1899 г. их было около 2,5 тысячи человек, а в 1914 г. число профессоров выросло почти вдвое и составило около 4,5 тысячи[263]. Основной их функцией, как и прежде, было воспроизводство себе подобных. И профессора выполняли ее в экстенсивном режиме: в 1913 г. во всех высших учебных заведениях империи училось около 120 тысяч студентов, а с конца ХIХ в. по февраль 1917 г. только в одиннадцати университетах дипломы получили более 150 тысяч человек[264].
В официальном делопроизводстве дооктябрьской России педагогический корпус высшей школы делился на профессоров[265] и младших преподавателей, что отражало не столько специализацию в научно-педагогических функциях, которые нередко мало заметны, сколько различия в номенклатурно-правовом статусе. Первые были администраторами, советниками и организаторами науки (членами ученых советов, заведующими кафедрами, деканами факультетов, членами Академии наук; в 1914 г. профессора составляли 87 % действительных членов Академии наук[266]), вторые – только учителями.
По своему гражданскому статусу профессура, представлявшая различные области и направления фундаментального и прикладного научного знания, относилась к привилегированной части российского чиновничества. По уставу 1884 г. ко времени полной выслуги (25 лет) профессора достигали чинов V–IV (статский генерал) классов. Некоторые поднимались до ранга тайного советника (III класс). Например, по данным на 1898 г., только в Санкт-Петербургском университете служили девять тайных советников. Среди них, в частности, были такие крупные ученые, как А.О. Ковалевский, А.Н. Бекетов, А.Н. Веселовский, В.И. Сергеевич. Возможность такой чиновной карьеры давало либо участие в государственном управлении, либо членство в императорской Академии наук. С 1906 г. стало возможным совмещение того и другого: в составе академической курии университетские профессора заседали в Государственном совете и Государственной думе[267].
Судя по послужным спискам преподавателей 19 высших учебных заведений Министерства народного просвещения[268], в начале XX в. социальный состав профессоров стал более гетерогенным, чем ранее, за счет вливаний из разных категорий дворянства. Примерно треть преподававших в университетах и четверть – в народнохозяйственных институтах были выходцами из потомственно-дворянских семей. Учеными становились потомки именитых и древних дворянских родов, как, например, Б.Н. Чичерин, основоположник «государственной школы» в русской историографии, братья-философы С.Н. и Е.Н. Трубецкие, естественники отец и сын А.Н. и Н.М. Бекетовы, сейсмолог Б.Б. Голицын, физиолог растений К.А. Тимирязев. Подобные примеры редкость, но в отличие от начала века такой выбор жизненного пути для аристократа стал возможен.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов"
Книги похожие на "Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов"
Отзывы читателей о книге "Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов", комментарии и мнения людей о произведении.